Давид Бранденбергер
Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)
К оглавлению
ЧАСТЬ III
1945-1953
Глава 11
Идеология в годы «ждановщины» и расцвета сталинизма
Некоторые историки в последние годы придерживаются мнения, что Великая Отечественная война стала фундаментальным мифом! определявшим развитие советского общества в послевоенный период. Победа над Германией способствовала укреплению культа личности Сталина и внушила большевикам недостижимую доселе неколебимую уверенность в легитимности их власти. Это был подлинный советский эпос, способный преобразить самую суть революции [690]. Другие утверждают, что столпы советской послевоенной идеологии хотели восстановить довоенную политическую машину, бесперебойно пропагандировавшую классические коммунистические ценности вроде советского патриотизма, трудолюбия, верности делу партии и заветам Маркса-Ленина, выбросив за борт напор руссоцентризма, а также влияние религии и буржуазного Запада, допускавшееся в 1941-1943 годы [691]. Не вызывает сомнений, что партия, доказав свою жизнестойкость в годы войны, больше не испытывала необходимости опираться исключительно на популистскую идею национал-большевизма или ностальгические воспоминания о ней. Массовая советская культура вплоть до 1991 года вновь и вновь возвращалась к опыту войны, задним числом оправдывая с его помощью все деяния большевиков, от головокружительной индустриализации 1930-х годов до «ежовщины». Но можно ли сказать, что советская послевоенная идеология полностью отказалась от методов прошлого?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего изучить предпринимавшиеся советским руководством в послевоенные годы попытки разобраться во всех идеологических течениях, наблюдавшихся во время войны. Хотя сталинский послевоенный тост в честь русского народа недвусмысленно определил руссоцентристскии характер отношения власти к прошедшей войне, в нем не уточнялось, какую именно роль должен играть этот «миф о войне» в советской идеологии во второй половине 1940-х годов. Вытеснит ли он свойственное национал-большевизму в предвоенные и военные годы повышенное внимание к русской истории или же недавнее прошлое будут сочетаться друг с другом? Сохранится ли прагматичная патриотическая пропаганда военного времени в том же жестком виде или будет смягчена добавлением возрожденных и обновленных лозунгов марксистского интернационализма, партийности и дружбы народов? Забудется ли скандал, связанный с изданием «Истории Казахской ССР», или же его роковые последствия будут затруднять идеологическую работу в союзных республиках? И как будет выглядеть советская идеология в целом после того, как тяготы войны остались позади?
Вообще говоря, советская идеология второй половины 1940-х годов не стала рвать связь с национал-большевизмом довоенных и военных времен. Судя по всему, свою основную задачу в этот период идеологи видели в том, чтобы совместить свойственный предыдущему десятилетию интерес к дореволюционной российской истории с принципиально иным, «советским» характером последней войны. Проанализировать идеологию периода развитого сталинизма обычными способами довольно трудно в связи с непоследовательностью партийных лозунгов и выступлений в это время, поэтому мы постараемся разобраться в ней, основываясь на том, что говорилось в ходе историографических дебатов, состоявшихся в 1945-1953 годы.
Возможно, легче всего пробиться сквозь идеологические дебри послевоенного сталинизма, если выбрать в качестве отправного пункта знаменательную речь Г. Ф. Александрова, произнесенную им в августе 1945 года на тему состояния общественных наук в СССР. Отметив успехи, достигнутые во время войны официальной исторической наукой в деле мобилизации населения, глава Агитпропа указал вместе с тем на недостатки, которые надлежало исправить. Прежде всего, история Советского Союза представала недостаточно прямолинейной. Похвалив работу, проделанную в годы войны республиками по изучению своей истории, он напомнил о недоразумениях, возникших в то же время в связи с попытками Казахстана, Татарстана и Башкирии опубликовать историю своего военного прошлого. Впредь не следует уделять слишком большого внимания волнениям национальных меньшинств и восстаниям против русской колонизации их, сказал Александров, поскольку «история народов России есть история преодоления этой вражды и постепенного их сплочения вокруг русского народа». Не стоит также слишком подробно описывать местные события, не имеющие большого значения для истории всей страны в целом. Александров сформулировал довольно замысловатый тезис, что «история отдельного народа может быть правильно разработана и понята только в связи с историей других народов и в первую очередь с историей русского народа». Призвав рассматривать историю как «единый органичный процесс», Александров лишний раз повторил неоднократно звучавшее после 1937 года требование, чтобы республиканская историография была подчинена единой руссоцентристской доктрине [692].
Не считая некоторых неувязок с казахской, татарской и башкирской историей, официальная партийная линия во время войны строго соблюдалась, и Александров позволил себе сосредоточиться на деталях изучения и популяризации истории. В частности, можно было бы, по его мнению, извлечь больше пользы из темы татаро-монгольского ига. Если учесть, что это испытание, выпавшее на долю русского народа, помешало дальнейшему продвижению Золотой орды на запад, сказал он, то русские вполне могут гордиться тем, что уже в XIII веке спасли Европу от опустошительного набега [693]. Все это укладывалось в русло советской историографии, проложенное после 1937 года, но затем докладчик сделал заявление, наверное, ставшее для всех неожиданностью. Сказав, что необходимо отретушировать канонические портреты таких крупнейших создателей русского государства, как Иван Грозный и Петр Первый, Александров добавил, что надо уточнить официальную позицию по отношению к бунтовщикам Разину и Пугачеву. Историки военного времени несколько перестарались, заметил он, превознося заслуги царственных особ и идеализируя их, и забыли о классовом подходе и основах марксистской исторической диалектики [694]. Рекомендации Александрова были тут же учтены ведущими историческими журналами и, вероятно, доставили немало хлопот историкам, занимавшимся вопросами государственного строительства в ходе войны [695]. Они гадали, насколько серьезно следует отнестись к словам Александрова и какие последствия они могут иметь.
Документы для внутреннего пользования, составленные в Агитпропе в конце 1945 года, нацеливали сотрудников на исправление некоторых перегибов, допущенных во время войны. К концу 1946 года, похоже, отошли в прошлое даже заявления, подобные тому, какое сделал Александров годом раньше, аллегорически уподобляя последнюю войну борьбе с татаро-монгольскими ордами. Согласно новой идеологической доктрине, победа над Германией ей была уникальным подвигом в истории человечества, не сравнимым ни с какими военными достижениями дореволюционной эпохи. Иногда эту доктрину называют «мифом о войне». Если прежде сталинские идеологи с готовностью обнаруживали и даже изобретали наследие императорской России в советской истории, то в послевоенные годы они громогласно объявляли, что победа над фашистской Германией носила исключительно «советский» характер и была обусловлена проводившейся после 1917 года дальновидной политикой индустриализации и социалистического строительства в целом [696]. Напрашивается предположение, что в Советском Союзе существовали два параллельных идеологических направления, и в то время как одна группа идеологов продолжала работать, опираясь на российскую историю, другая занималась созданием мифа о войне. Но, может быть, второе направление полностью вытеснило первое?
На первый взгляд, где-то на рубеже 1945 и 1946 годов миф о войне действительно заглушил характерное для предвоенного и военного времени увлечение русским прошлым. Некоторые деятели культуры вразрез с последними идеологическими установками по-прежнему разрабатывали темы, популярные в годы войны. Пьесы «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского и «Медальон» Н. Шпанова были заклеймены сотрудником Агитпропа А. Е. Еголиным как «идеализирующие высшие круги офицерства царской армии» и «призывающие советских командиров учиться долгу и чести у старых офицеров» [697]. В начале августа 1946 года Еголин вместе с Александровым подготовили докладную записку, в резкой форме критиковавшую журнал «Звезда» за публикацию стихов А. Ахматовой и М. Комиссаровой, которые якобы отдавали предпочтение дореволюционному прошлому, отвергая советскую действительность. В том же документе получил нагоняй С. Спасский за использование «неудачной» исторической аллегории в своей поэме 1946 года «Всадник». Сопоставляя блокадный Ленинград с городом Петровской эпохи, Спасский, по мнению идеологов, утверждал, что «любовь советских людей к своей Родине ничем не отличается от патриотических чувств русского человека в прошлом. Эта ошибочная точка зрения привела автора к идеализации образа Петра I и даже к превращению его в символ советской страны» [698]. Подобные обвинения выглядят странно, если учесть, что ссылки на Петра и дореволюционное прошлое в целом были краеугольным камнем национал-большевистской пропаганды со второй половины 1930-х годов. Следовало ли понимать, что теперь партийные руководители призывают напрочь отбросить мобилизованные совсем недавно традиции и героев царской России?
Судя по всему, именно так и было. Вслед за докладной запиской Еголина и Александрова ЦК партии издал в середине августа 1946 года резолюцию, в которой сурово осуждались литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград», чьи редакторы якобы не проявляли достаточной бдительности. Вскоре после этого Жданов выступил от имени Политбюро с громогласной филиппикой против творчества Ахматовой, Зощенко и других «антисоветских» авторов. Эта своего рода публичная порка писателей ознаменовала начало периода, который принято называть «ждановщиной» [699]. Не прошло и двух недель после этого прославившегося своей несдержанностью поношения творческой интеллигенции, как была обнародована резолюция ЦК, казалось, подтверждавшая, что партия решила отказаться от историографической линии, намеченной в 1937 году и поддержанной Александровым всего год назад. Резолюция была озаглавлена «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и обвиняла советские театральные коллективы в том, что они идеализируют «царей и ханов» и импортируют «западные буржуазные» ценности [700]. В то время как в последнем обвинении звучат отголоски хорошо знакомой истерической советской ксенофобии, брошенный театральным деятелям упрек в ностальгии, якобы испытываемой ими по временам царей и ханов, означал, что театрам придется расстаться со значительной частью своего репертуара, популярного после 1937 года, — от опер Глинки до драм всех трех Толстых.
Однако исторические эпопеи, описывавшие осаду Севастополя или Брусиловский прорыв, достигли во второй половине 1940-х годов пика своей популярности. В 1947 году Сталин лично давал указания Эйзенштейну, каким образом надо переработать для проката вторую серию «Ивана Грозного» [701]. В том же году было решено установить в центре Москвы на Советской площади памятник князю Юрию Долгорукому, который должен был заменить Обелиск Свободы, возведенный в этом месте в годы революции. Установка памятника была приурочена к пышному празднованию 800-летия основания Москвы. С не меньшей помпой была отмечена чуть позже 150-летняя годовщина со дня рождения Пушкина. Произведения, посвященные этим и подобным фигурам дореволюционной эпохи, не сходили со сцены и экрана в течение всего десятилетия, что явно противоречило партийному призыву ограничить изображение российской старины. Поэтому стоит еще раз поднять вопрос: вытеснил «миф о войне» дореволюционное прошлое или нет?
Ответ, возможно, содержится в замечании Сталина, брошенном Эйзенштейну во время их известной беседы 1947 года: надо «преодолеть возрождение национализма» у нерусских народов [702]. И если Агитпроп дал указание всесоюзным учреждениям культуры поменьше обращаться к истории русского народа, то этот запрет бледнеет по сравнению с сущим разгромом историографии национальных республик, учиненным в 1945-1947 годы. Еще в 1944 году партийным руководителям некоторых республик были высказаны претензии по поводу того, что они ведут пропаганду, которая принижает роль русских в семье братских народов. Прежде всего досталось партийным организациям Татарстана и Башкирии за прославление подвигов их народов в эпоху татаро-монгольского ига [703]. Сразу же после этого подверглись критике деятели культуры Марийской республики, в чьих работах изображение дореволюционной жизни граничило, по мнению Москвы, с национализмом [704]. Затем наступила очередь парторганизации Казахстана, которая якобы не учла уроков, преподанных ей во время войны в связи с публикацией злополучной «Истории Казахской ССР» [705].
В послевоенные годы эта тенденция продолжала набирать силу. В августе 1945 года Александров неодобрительно отозвался об исследованиях, посвященных жизни народов СССР в стародавние времена и тем более сопротивлению, оказанному ими колонизаторской политике и культурному влиянию России при старом режиме. Этот мотив вновь прозвучал год спустя в резолюции ЦК о театральном репертуаре, осуждавшей «идеализацию ханов». В сочетании с сокрушительными ударами, нанесенными казахским и башкирским историкам, эти резолюции подняли целую волну выступлений против нерусской историографии, прокатившуюся по всему Союзу во второй половине 1940-х годов. Так, в августе 1947 года пленум ЦК компартии Армении осудил «националистические» исследования по литературе и истории народа, в которых средневековый период идеализировался и назывался «золотым веком». Между тем, именно в то время зародились дружественные культурные связи Армении с Россией. Суровой критике за распространение «националистических и реакционных настроений» подверглись не только Институт филологии Академии наук Армянской ССР и республиканский Союз писателей, но и член ЦК армянской компартии, ответственный за идеологическую работу [706]. Не менее суровым был разнос, учиненный партийной организации Мордовской АССР [707]. Затем принялись за якутскую и бурятскую историографию, что совпало с критической кампанией, связанной с изданием «Истории народов Узбекистана» в Узбекской ССР[708]. Были вскрыты недостатки в преподавании истории в Эстонии, где, как указывалось, «в разделе об СССР не упоминаются имена Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова, Радищева». Хуже того, «при изучении истории СССР не показывается совместная борьба русского и эстонского народов против общих врагов» [709]. Не была обойдена вниманием и маленькая республика Тува, где партийным руководителям пришлось развернуть широкую кампанию самокритики после того, как вскрылось, что в республике недооценивают роль русского культурного влияния:
«Институт не занимается научно-исследовательской работой — изучением и разработкой истории, языка и литературы тувинского народа, не разрабатывает вопросы исторической дружбы русского и тувинского народов, влияние русской культуры на развитие тувинской культуры, исторической помощи русского народа трудящимся Тувы в их освобождении от кабалы иностранных захватчиков и внутренних феодалов…. Принятая институтом работа научного сотрудника института Сейфулина "Краткий очерк истории тувинского народа" требует переделки. В этой работе слабо отражено прогрессивное влияние русской культуры и экономики русского государства на развитие культуры и экономики тувинского народа» [710].
Даже эпические поэмы среднеазиатских республик, которые в конце 1930-х годов ценились наравне со «Словом о полку Игореве» были неожиданно объявлены фальсификациями. В начале 1950 годов главные идеологи страны выступили со странным заявлением, что эпические произведения, которые всегда считались продуктом народного творчества, в первую очередь, «Деде-Коркут» (Азербайджан), «Коркут-ата» (Туркмения), «Алпамыш» (Узбекистан) и «Манас» (Киргизия) — якобы были на самом деле сочинены инакомыслящей республиканской интеллигенцией с целью внедрить в официальную пропаганду «буржуазно-националистические» ценности [711].
Сражения из-за национальной историографии не утихали до конца сталинского правления. В некоторых республиках партийным элитам удалось быстро придушить инициативы местных историков, шедшие вразрез с руссоцентристской линией, в других — Казахстане, Татарстане — скандал за скандалом сотрясали местные парторганизации почти целое десятилетие [712]. Само собой разумеется, обвинений в национализме не избежали и евреи, что привело, помимо «Дела врачей», к убийству С. М. Михоэлса и разгрому Еврейского антифашистского комитета, не говоря уже об антикосмополитической кампании, которая проводилась с конца 1940-х годов до 1953-го [713]. В целом, изменение курса национальной политики, которого придерживались еще в разгар войны, было разительным. Как иронически отмечает один специалист, в рядах наиболее злостных гонителей культуры и историографии нерусских народов было немало тех, кто прославлял их военные традиции в 1941-1943 годы [714].
Приведенные выше материалы могут создать впечатление, что основной удар «ждановщина» наносила по республикам Кавказа и Средней Азии, однако и славянские народы СССР не остались в стороне. Напротив, послевоенная фаза этой кампании, судя по всему, началась именно со славянских республик. Так, в 1946 году состоялся настоящий инквизиторский суд над украинскими историками и литераторами, которых обвинили в националистическом «уходничестве» в дореволюционное прошлое. На пленуме ЦК компартии Украины Н. С. Хрущев набросился на такие издания, как «История Украины» и «Очерк истории украинской литературы», уличив первое из них в «серьезных ошибках националистического характера», а второе — в «буржуазно-националистических взглядах на историю украинского народа и его культуры» [715]. Его атаку подхватил спустя неделю главный идеолог украинского ЦК К. З. Литвин, заявив, что подобные исследования «замалчивают русско-украинские литературные связи и в то же время преувеличивают влияние западноевропейских литератур» [716]. Это наступление было поддержано в 1946-1947 годы почти десятком резолюций ЦК украинской компартии, которые буквально подкосили республиканскую историографию и историческую литературу. На следующий год к этой мазохистской вакханалии присоединились против своей воли белорусские коммунисты. Было решено, что «История Белорусской ССР» не годится для массового распространения, поскольку утверждает, что белорусская нация сложилась уже в X веке, а государство — в XI-м. Памятуя об упреках Александрова, высказанных украинской компартии во время войны по поводу прославления Даниила Галицкого [717], белорусские коммунисты строго пресекали все ссылки на историю своей республики, которые могли скомпрометировать легендарное прошлое русского народа: «Автор утверждает, что "воинственные дружины полочан под руководством Владимира [Полоцкого — Я. К.] разгромили немецких псов-рыцарей, сдержали их движение на Восток". Полочане несомненно участвовали в борьбе против немецких псов-рыцарей, но осуществить разгром последних удалось лишь дружинам Александра Невского» [718]. Вызывали сомнения и тексты, в которых описывалась благополучная жизнь белорусского народа под властью иноземных правителей. Они были опасны с той точки зрения, что «читатель может сделать неправильный вывод о как бы добровольном присоединении западно-русских земель к Литве», что было совершенно неприемлемо для московских идеологов. Когда в Москве решили, что белорус-скал компартия не в силах самостоятельно справиться с ситуацией в Минске, газета «Культура и жизнь», бывшая рупором ждановских идей, опубликовала две статьи, посвященные этому вопросу, а Оргбюро выразило порицание белорусским коммунистам. Эти меры возымели свое действие, и страсти в Белоруссии накалились до такой степени, что в «буржуазном национализме» стали обвинять всех, кто разрабатывал темы национальной истории. И даже два года спустя, в 1949-м, белорусские историки жаловались, что их наука так и не оправилась от этого удара [719].
Таким образом, «ждановщина» была направлена прежде всего против прославления истории «ханов» Средней Азии и нерусских славян. Хотя партийное руководство ни за что не призналось бы в подобных умыслах, проницательные наблюдатели вроде историка С. С. Дмитриева не сомневались в их существовании [720]. Аналогичные меры, призванные сгладить неувязки социального характера, возникающие при воскрешении имен некоторых выдающихся деятелей русской истории, были несопоставимы по своему масштабу с этой военной кампанией против историографии других народов. ЦК не издавал резолюций по поводу русской исторической науки, научные учреждения не подвергались беспощадной критике и не распускались. Звучали лишь отдельные упреки в адрес некоторых представителей творческой интеллигенции, «чрезмерно» увлекавшихся историческими темами вместо прославления успехов советской власти во время последней войны.
О том, что послевоенная политика по отношению к историографии была руссоцентристской, свидетельствует и состоявшаяся в 1947 году беседа Сталина с Эйзенштейном, снявшим кинофильм. «Иван Грозный», и исполнителем заглавной роли в этом фильме Черкасовым. В ней также принимали участие Жданов и Молотов. Сталин подробно разобрал фильм, и высказанные им замечания показывают, в контексте царившей в ту пору ксенофобии, что генеральный секретарь ратовал, как и прежде, за пропаганду сильного государства, ориентированную на исторические завоевания царей:
«Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния….
Петр I тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком открыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустил онемечивание России. Еще больше допустила это Екатерина. И дальше — разве двор Александра I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы» [721].
В заключение Сталин заметил, что Иван был «более национальным» из двух русских правителей. Его речь, сопровождавшаяся ремарками со стороны Жданова и Молотова, позволяет понять многое. Тот факт, что Сталин пожелал лично встретиться с Эйзенштейном в 1947 году, чтобы побеседовать о событиях XVI века, говорит о том, что во второй половине 1940-х годов событиям прошлого по-прежнему придавалось первостепенное значение. Данная Сталиным оценка личности Ивана IV совпадает с той, что была провозглашена официально перед войной [722], — новым является лишь соображение об опасности иностранного влияния. Три месяца спустя Сталин в присутствии Симонова, Жданова, Молотова, Мехлиса и других повторил свои критические замечания по поводу чрезмерного увлечения Петра Первого всем западным [723]. В выступлениях генерального секретаря в эти годы часто встречаются также положительные отзывы об адмирале Нахимове и идее панславизма [724]. В целом, партийное руководство так же высоко оценивало роль русского прошлого в пропаганде советского настоящего, как и прежде.
Тем не менее, нельзя не отметить и некоторые изменения, произошедшие в официальной пропаганде. Почему Александров пытался притормозить восхваление дореволюционных героев? Почему он вместе с Еголиным критиковал аллегорическое использование Спасским образа Петра Первого при описании блокадного Ленинграда? Почему Жданов осудил превозношение русских царей в своих нападках на азиатских «ханов»? Ответ кроется в упомянутом выше «мифе о войне». Хотя советские идеологи обычно не открещивались от мобилизованных ими эпизодов русской истории, где-то в конце 1944 или начале 1945 года у них вошло в правило связывать успехи в последней войне не столько с героическим наследием, сколько с достижениями советской власти. В этом нет ничего удивительного, поскольку партия всегда стремилась утвердить легитимность своего правления и свой неколебимый авторитет, и представление о победе 1945 года как не имевшей прецедентов в истории служило неоспоримым аргументом в пользу советского государственного строительства.
Таким образом, с середины 1940-х годов и до распада в 1991 году советское государство стремилось подтвердить свой статус с помощью двух эпопей; тысячелетней истории России и Отечественной войны с фашистской Германией. Поскольку в конце 1940-х годов рассмотрение последней войны отдельно от всей истории выглядело бы несколько искусственно, ее описывали традиционным языком пропаганды, ориентированной на русское прошлое. Лучшей иллюстрацией этого служит знаменитый панегирик Сталина русскому народу, произнесенный весной 1945 года. Проницательные слушатели восприняли его как свидетельство того, что патриотизм и преданность советским идеалам будут после войны оцениваться по этническому принципу, как это было в 1930 годы [725]. К тому же выводу пришел югославский партийный деятель М. Джилас. Исходя из того факта, что Сталин назвал Советский Союз Россией, он решил, что диктатор не только поддерживал русский патриотизм как пропагандистское средство, но и сам разделял его [726]. В конце 1940-х — начале 1950-х годов слова «русский» и «советский» стали почти взаимозаменяемыми.
Но не всех идеологов устраивало это сращивание русского с советским, и некоторые из них подчеркивали различие между дореволюционным русским патриотизмом и его русифицированным советским эквивалентом. На разницу между этими понятиями указал в 1946 году не кто иной, как главный идеолог страны Жданов, предавая анафеме Ахматову, Зощенко и ленинградские литературно-художественные журналы: «Мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны». Позиция Жданова вполне логична для правоверного марксиста, к каким он себя причислял. Нелогичным и крайне искусственным выглядело только то, что, стремясь разграничить Советский Союз и дореволюционную Россию («мы изменились»), он одновременно пытался строить советское государство на избирательной этнической основе («мы русские») и сохранить связь с тысячелетней историей страны («Русь») [727]. Неудивительно, что данную позицию оказалась очень сложно отстоять, и вскоре она была оставлена [728].
Сочетать «миф о войне» и восхваление дореволюционного российского прошлого удавалось лишь национал-большевизму с его популизмом, руссоцентризмом и приверженностью идее сильного государства. Возможно, наиболее полно идеологическая основа послевоенной политики партии обобщена в рабочем документе Агитпропа, озаглавленном «План мероприятий по пропаганде среди населения идеи советского патриотизма». Он заслуживает того, чтобы процитировать его развернуто:
«Показывая величие нашей социалистической Родины, героического советского народа, необходимо в то же время разъяснить, что наш народ вправе гордиться и своим великим историческим прошлым. Нужно подчеркивать, что русский народ на заре современной европейской цивилизации защитил ее в самоотверженной борьбе против шедших из Азии монголо-татарских орд, а позднее оказал решающую помощь народам Европы в отражении натиска турецких завоевателей. В начале XIX века, разгромив полчища Наполеона, русский народ освободил народы Европы от тирании французского диктатора.
Следует разъяснить, что наш народ сделал неоценимый вклад в мировую культуру. Необходимо раскрыть всемирно-историческое значение русской науки, литературы, музыки, живописи, театрального искусства, и т. д., вести решительную борьбу против попыток принижения заслуги нашего народа и его культуры в истории человечества, против антинаучной теории об ученической роли русского народа в области науки и культуры перед Западом.
Нужно показать, что реакционные эксплуататорские классы, господствовавшие в России, не заботились о росте науки и культуры, тормозили ее развитие в нашей стране. В результате этого плоды русских ученых часто присваивали иностранцы, приоритет многих великих научных открытий, сделанных русскими учеными, переходил к иностранцам (Ломоносов — Лавуазье, Ползунов — Уатт, Попов — Маркони и др.).
Необходимо разъяснять, что отдельные группы господствовавших классов России, оторванные от своего народа и чуждые ему, стремились принизить великие достижения русского народа и пресмыкались перед иностранщиной. Даже такой прогрессивный деятель, как Петр I, переносил в Россию передовые формы жизни Запада, допускал национальное унижение русских людей перед иностранцами. Во второй половине XVIII в. и в начале XIX века верхушка русского дворянства слепо подражала чужеземным нравам, усиленно пользовалась французским языком и всячески принижала родную русскую речь. Декадентство, охватившее в конце ХГХ в. и в начале XX века все области идеологии господствующих классов, отмечено чертами низкопоклонства перед самыми реакционными сторонами западной культуры. Господствовавшие в России помещики и капиталисты вели нашу страну к экономическому и политическому порабощению зарубежными государствами. Правящая верхушка России стремилась духовно подчинить русский народ иностранцам.
Большевистская партия, поднявшая трудящихся России на социалистическую революцию, предотвратила превращение нашей страны в колонию иностранных империалистов, вывела ее на широкую дорогу прогрессивного развития, неизмеримо подняла международный авторитет нашей Родины» [729].
Трудно что-нибудь добавить к этому исчерпывающему программному заявлению. Если в начале 1920-х годов основополагающей идеей была ленинская фраза «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны», то девизом сталинской политики в конце 1940-х может служить формула «Советская власть — это история русского народа плюс миф войны».
Обычно период «ждановщины» характеризуют как время торжества темноты и невежества, ксенофобии и антисемитизма, но, возможно, — еще более точным было бы определение этой эпохи как кульминации руссоцентрической кампании, начатой в 1937 году и постепенно русифицировавшей советскую идеологию [730]. Национал-большевистская пропаганда в середине 1940-х годов успешно развивалась по двум дополняющим друг друга направлениям. Александров отдавал предпочтение первому из них, утверждавшему линейное историческое развитие, и постепенно очищал руссоцентристскую позицию от всех сколько-нибудь значимых нерусских компонентов. В конце 1940-х годов этот руссоцентризм вполне согласовывался с вторым идеологическим направлением, опирающимся на миф о войне. Официально считалось, что опыт войны пережит всем советским народом, но крупнейшие авторитеты в области идеологии чаще всего отзывались о нем как о «русском». Они всеми силами стирались представить последнюю войну как «современный эпос», чьи корни следует искать скорее в индустриализации и коллективизации, нежели в российском прошлом. Но чтобы оживить миф знакомыми всем легендарными фигурами, идеологи следовали примеру Сталина, поданному им в мае 1945 года, и утверждали, что борьбу с немцами вели в основном русские.
Объединенные национал-большевистским руссоцентризмом и связанные двойной осью истории и войны, прошлое и настоящее сосуществовали в послевоенные годы вполне согласованно. В совокупности они обеспечивали советских идеологических работников чрезвычайно эффективным словарем мифов, образов и кумиров, что позволяло сплотить население и доказать легитимность советского правления. Поэтому было бы ошибкой говорить, что в период «ждановщины» и после него наблюдался полный разрыв с той линией, которая проводилась в предвоенные и военные годы. Руссоцентризм во второй половине 1940-х годов усилился, а не ослабел. Попытки других народов СССР исследовать свою историю и развивать свою культуру, как правило, не поддерживались, а история русского народа занимала все более привилегированное положение. В коридорах власти сталкивались непримиримые противоречия историко-административного характера и велась непрерывна борьба, однако русскому населению все это было неведомо, и оно в целом было едино в своем руссоцентризме [731]. Рассмотрение «ждановщины» в русле национал-большевистской тенденции, отличавшей советскую историографию и массовую культуру после 1937 года, позволяет понять неожиданный подъем руссоцентризма и ксенофобии и определить новые ориентиры, помогающие разобраться в идеологической топографии всего периода развитого сталинизма.
Глава 12
Партийное и народное образование в первые послевоенные годы
В сентябре 1946 года новый министр просвещения А. Калашников повторил мысль, высказанную годом раньше его предшественником на этом посту, заявив, что «советская школа и советский учитель сыграли немалую роль в воспитании того поколения Советского Союза, которое на своих плечах вынесло все тяготы Великой войны и завоевало всемирно-историческую победу». Калашников высоко оценил недавние постановления ЦК в области идеологии и подчеркнул их важность для советской школы: «Задача коммунистического воспитания прежде всего относится к школе. Именно школа должна обеспечить миллионам юношей и девушек нашей страны надлежащее умственное и политическое образование, выработать у них коммунистическую направленность мышления и поведения, создать прочные моральные предпосылки общественных навыков» [732].
Столь ортодоксальный коммунистический подход к образованию на первый взгляд не вполне совпадает с ориентированной на историю популистской линией, доминировавшей во время войны. Зато он согласуется с послевоенным стремлением представить победу в войне как основополагающий истинно «советский» миф, утверждающий историческую закономерность развития страны под руководством партии. Ждановские нападки на журналы «Звезда» и «Ленинград» усиливали эту тенденцию и уводили еще дальше от ориентации на историю. Глава Московского отдела народного образования Воронинов, выступая на учительской конференции в январе 1947 года, постарался сгладить острые углы жесткой позиции Жданова, но вместе с тем осудил чрезмерный пиетет перед царским режимом, характерный для предыдущих лет. «Эта чуждая идеология, — заявил Воронинов, — проявляется зачастую в намеренном восхвалении героев прошлого. "Битвы наши посильней Полтавы и наша любовь посильней Онегинской", — говорит в своем докладе тов. Жданов» [733].
Подобные высказывания против апологии дореволюционного прошлого звучали в послевоенные годы достаточно часто, однако, учитывая особенности национал-большевизма во второй половине 1940-х годов, не следует придавать этим высказываниям слишком большого значения. Ставка на русскую историю никогда не отменялась — ни в период «ждановщины», ни после нее, и точнее будет сказать, что советская идеология в этот период развивалась довольно сложным путем по двум основным направлениям. С одной стороны, советский миф войны становился ядром легитимации советской власти. С другой, опора на тысячелетнюю историю страны, продолжая линию, взятую на вооружение после 1937 года, была дополнительным источником укрепления власти и ее легитимности. Объединяло эти две мобилизационные стратегии единое главное действующее лицо — русский народ. Чтобы понять, каким образом эти два направления соотносились и дополняли друг друга, имеет смысл рассмотреть, как они были внедрены в первое послевоенное десятилетие в системах школьного образования и партийной учебы.
Хотя сразу после войны советские идеологи все чаще ссылались на теорию марксизма-ленинизма, это отнюдь не означало, что они распрощались с руссоцентризмом предыдущего десятилетия. Национальная идентичность оставалась важнейшим официально провозглашенным лозунгом [734]. Иллюстрацией может служить одна из докладных записок 1949 года о патриотических аспектах изучения истории в общеобразовательных школах. Преподавание истории, говорится в записке, «исходило из следующих важнейших принципиальных задач: усиление коммунистического воспитания молодежи, воспитание советского патриотизма и чувства советской национальной гордости, воспитание учащихся и духе беззаветной преданности и любви к Родине, большевистской партии и ее великим вождям» [735].
Дискуссии на тему «советской национально, гордости» на практике обычно принимали вид беседы о русской национальной гордости. Эта тенденция просматривается и в упоминавшемся выше выступлении Воронинова на учительской конференции 1947 года, где он говорит о патриотическом воспитании школьников: «Раскрыть на исторических примерах все эти благородные качества народов нашей страны, в первую очередь русского народа — прямая задача преподавателя истории» [736]. Два дня спустя при обсуждении принципов преподавания истории на этой конференции такую же точку зрения высказала учительница Панюшкина: «Исключительно большую роль в деле идейно-политического воспитания играет история, она является могучим средством воспитания советского патриотизма. Наша отечественная история особенно богата, и в первую очередь русский народ проявил свои выдающиеся способности: свободолюбие, героизм, гуманизм» [737]. Иными словами, несмотря на предпринимавшиеся при «ждановщине» попытки внедрить в школьное обучение осознание новой «ортодоксальной» советской идентичности, руссоцентризм и ориентация на русскую историю оставались важными идеологическими компонентами [738].
Записи, сделанные на уроках истории, демонстрируют, как руссоцентристские исторические образы вплетались в «советские» темы урока. Вот как учитель В. И. Щелокова проводила в 1948 году обсуждение нового гимна СССР:
«Учитель: Теперь перейдем к флагу Советского Союза. Какая эмблема, какой знак помещен на флаге?
Ученик: Серп и молот. Серп и молот — это союз рабочих и крестьян.
Учитель: Верно. А как вы объясните цвет нашего государственного флага?
Ученик: Цвет красный только у нас — у нас в Советском Союзе.
Учитель: Я вам помогу. "Сквозь грозы сияло нам солнце свободы". О каких грозах говорит писатель в гимне? Ученик: О борьбе рабочих и крестьян с самодержавием… Ученик:… с помещиками и капиталистами. Учитель: Да, это верно» [739].
Начав урок с традиционного обращения к советским образам, Щелокова затем напомнила ученикам стихотворение, в котором автор размышляет об истории русского общества:
«Учитель: Сережа, я прошу Вас вспомнить стихотворение [И. С] Никитина, которым начинается четвертая глава книги "Родная речь".
Ученик: Это стихотворение называется "Русь".
Учитель: Объясните мне это слово.
Ученик: Так называлась раньше наша страна.
Учитель: Вася, а к чему писатель призывает нас в этом стихотворении? Прочтите эти строчки, заключительные строчки.
Ученик: Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову!»
Очевидно, Щелоковой было трудно преподнести ученикам «советский» материал, не ссылаясь на привычные руссоцентристские образы. Это подтверждается, когда она переходит к упражнению на ту же тему. Развернув перед учениками три плаката, она объявляет: «Дети! А вот как товарищ Сталин говорит о русском народе!» На плакате и в самом деле запечатлены слова, произнесенные Сталиным в 1945 году в его знаменитом тосте в честь русского народа. Ученики сначала читают слова молча про себя, затем хором повторяют их: «Русский народ является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Русский народ в этой войне… явился руководящей силой среди всех народов нашей страны. У него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение!» После этого Щелокова задает ученикам ряд вопросов по поводу сталинского панегирика, чтобы он лучше запомнился им:
«Учитель: Что же сказал товарищ Сталин о нации русского народа? Какая это нация?
Ученик: Русский народ является наиболее выдающейся нацией из всех наций.
Учитель: А какова была роль русского народа в Отечественной войне?
Ученик: В Отечественной войне он был руководящей силой.
Учитель: Что товарищ Сталин сказал о его уме и характере?
Ученик: У него ясный ум, стойкий характер и терпение.
Учитель: Наша Родина, наша могучая Родина-Русь объединила все народы, живущие с нами, объединила в одно могучее, непобедимое Советское государство».
В конце урока учительница вернулась к патриотической идее, заключенной в слове «союз», встречающемся в новом гимне:
«Учитель: Укажите литературным примером сплоченность народов нашего Союза. Поищите примеры в карточках, которые расположены у вас на партах.
Ученик: Я русский человек, сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на Родину свою.
В годину бед она всегда бывала
Единой, несгибаемой, стальной.
Навстречу битвам Русь моя вставала
Одной дружиной, грозною стеной.
Учитель: Да, так и было с давних лет.
Ученик: Пошел на битву
Истафил Мамедов,
Азербайджанец,
Внук богатырей [740].
Учитель: Когда это было?
Ученик: В Великую Отечественную войну.
Учитель: Узбек Москву родную защищает,
Украинец к победе устремлен,
Казах в бою грузину помогает.
Такой народ не будет побежден! [741]
Конспект этого урока дает хорошее представление о школьном образовании в послевоенные годы. Изучение советской символики было на уроке поверхностным. О народах Востока говорилось лишь как о наследниках древних традиций («внук богатырей»), лояльных советской власти и преданно защищающих своих колонизаторов. Только русские национальные образы получают более сложное, трехмерное отображение.
Помимо прославления русского народа, центральное место в преподавании истории занимали рассказы о выдающихся деятелях дореволюционного прошлого, хотя это в период «ждановщины» совсем не поощрялось. Происходило это из-за того, что материалов, посвященных различным Невским и Донским, было заметно больше – по крайней мере, в конце 1940-х годов, — чем материалов о новом поколении Гастелло, Космодемьянских и других героев последней войны [742]. Когда учительница г. Серпухова З. В. Королькова написала на классной доске название темы — «Из прошлого нашей Родины» — и предложила ученикам высказаться по ней, класс стал перечислять такие имена, как Иван Сусанин и полководец Суворов. Тот факт, что никто из учеников не назвал героев недавнего прошлого — Ленина, Ворошилова, Жукова — по-видимому, не смутил учительницу, и она использовала рассказы о Сусанине и Суворове, чтобы проиллюстрировать свой основной тезис: «Никогда врагам не бывать хозяевами на русской земле. Не раз и не два встречала наша Родина врага и каждый раз с победой выходила». После этого, чтобы проверить знания учеников, она написала на доске «1612», и один из них тут же сказал, что «в этом году русский народ изгнал поляков из Москвы» [743].
Урок, проведенный Корольковой, показывает, что даже после того, как Великая Отечественная война стала доминирующим советским мифом, современная международная обстановка по-прежнему трактовалась по аналогии с событиями 1612 года, в которых фигурировали полумифологические образы Сусаниных, Мининых, Пожарских, неизменный русский народ и хищные полчища поляков и шведов. В учебных материалах, популярных романах, кинофильмах и даже операх период «Смутного времени» рассматривался во всем Советском Союзе примерно так, как это сделала ученица четвертого класса горьковской средней школы Филиппова. Когда ее попросили рассказать о междуцарствии в XVII веке, она «кратко охарактеризовала борьбу русского народа с польскими захватчиками, назвала дату, рассказывала о патриотическом подвиге Сусанина» и закончила ответ строфой из стихотворения К. Ф. Рылеева: «Предателя мнили найти вы во мне,/Их нет и не будет на русской земле./В ней каждый отчизну с младенчества любит/И душу изменой свою не погубит» [744].
Точно так же, как до войны и во время нее, в послевоенные годы исторический нарратив (по крайней мере, до середины XIX века) базировался на достижениях вьщающихся личностей дореволюционного прошлого. Их образы вновь и вновь воскрешались в школьных классах, чтобы подкрепить аргументацию, проиллюстрировать учительские выводы и подсказать ученикам наводящие на размышление аналогии [745]. Учительница Лямина в г. Богунаевск под Красноярском излагала тему изгнания польских и шведских интервентов из Москвы в 1612 году с привлечением материалов о победе Александра Невского над шведскими и немецкими захватчиками в XIII веке [746]. Еще более удивительно, что рассказ о героях революции и Гражданской войны, когда по программе настал их черед тоже строился на ассоциациях с событиями далекого прошлого. Учащиеся Московской области «сопоставляют героизм Ворошилова с героизмом Тараса Бульбы, погибшего на костре, и заканчивают свое изложение словами из повести Гоголя: "Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу?"» [747] Очевидно, целью такого тенденциозного прочтения Гоголя могло быть лишь насыщение современного советского мифа о Ворошилове авторитетом и легитимностью «классического» представления отдаленного прошлого.
Но в пантеоне национальных героев обитали не только полководцы и революционеры. В связи с постановлением ЦК, призывающим к повсеместной популяризации научных достижений [748] и в продолжение пропагандистской работы, начатой еще в конце 1930-х годов, множество дореволюционных ученых — как и художников, писателей, композиторов — были возведены на русифицированный советский Олимп. Характерен для этой тенденции отчет о 1948-1949 учебном годе по Московской области, в котором отмечается ознакомление учеников одной из школ Подольска с достижениями Ломоносова. Учительница Борисова не только «глубоко и интересно охарактеризовала образ гениального русского ученого, пламенного патриота, борца за величие и благосостояние Родины, за национальную русскую науку», но и «подчеркнула борьбу Ломоносова с иностранцами — немецкими профессорами» [749]. Хорошо известно, что официальная пропаганда второй половины 1940-х годов, стремясь подчеркнуть величие успехов, достигнутых Россией, забывала о всякой скромности и соблюдении приличий. Согласно этой версии, М. В. Ломоносов заложил основы всей современной науки, Л. И. Ползунов создал первый паровой двигатель, А. С. Попов изобрел радио, А. Ф. Можайский построил первый аэроплан, а П. Н. Яблочков с А. Н. Лодыгиным создали первую электрическую лампочку. Если раньше отсталость России в некоторых областях культуры и науки признавалась, то теперь официально утверждалось, что на самом деле русские всегда были впереди всего человечества, а отставание во внедрении этих изобретений — следствие злостного обскурантизма царского режима [750].
Эта точка зрения закреплялась у школьников с помощью множества сочинений, которые они писали и на уроках, и в свободное от основных занятий время в литературных кружках [751]. К примеру, московские пионеры разрабатывали осенью 1947 года темы «Герой Родины», «Мой любимый герой», «Великие русские ученые Ломоносов, Мичурин, Тимирязев», не забывая и о традиционных вопросах, связанных с культом личности Сталина («О жизни и деятельности И. В. Сталина»), советским патриотизмом («Широка страна моя родная») и текущими событиями («800-летие Москвы») [752]. Учитель из Московской области Кнабергоф организовал в школе исторический кружок, в котором обсуждали темы вроде «Иван Сусанин как русский народный герой и патриот», придумал специальную игру под названием «Александр Невский», а также поручал ученикам написать в школьную газету заметки о Минине и Пожарском [753].
Понятно, что подобное предпочтение русских национальных героев на уроках истории с легкостью переходило в прославление одной определенной нации [754]. Официальные призывы воспитывать у учеников чувство национальной гордости побуждали учителей изобретать все новые и новые педагогические подходы. В отчете 1949 года отмечается успешная работа учительницы Янковской из школы г. Раменского Московской области: она «убедительно рассказала об огромном значении борьбы Руси с монголами, заслонившей собой, как гигантская стена, еще слабую европейскую цивилизацию от монгольских опустошителей, приняв на себя всю тяжесть удара» [755]. На следующий год семиклассники города Люблинска удостоились похвалы за их отзыв о Ледовом побоище 1242 года и Куликовской битве 1380 года: «На протяжении XIII века русский народ дважды спас народы Западной Европы от порабощения» [756]. Столь гиперболизированная и узконаправленная трактовка древней истории согласовывалась с требованиями, выдвинутыми Александровым осенью 1945 года и предвосхищала официальное постановление по поводу выпуска популярного руководства для учителей, состоявшееся в следующем году [757]. Как заметил один из исследователей, в послевоенные годы тема избранного народа и высокого предназначения России заняла центральное место в официальных научных, литературных и политических дискуссиях [758]. Если в 1930 годы социализм был переинтерпретирован как осуществлявшаяся государством модернизация общества, то в конце 1940-х он приобрел значение особого достижения именно русской нации. Во всем превосходя другие народы, русские не только выяснили ответ на все мировые проблемы, но и сумели выразить чаяния всего человечества и создать своего рода рай земной, в который постепенно вольются и остальные жители Земли. Русская наука якобы всегда была самой научной, русское искусство — самым близким к народу, а русские воины — самыми храбрыми.
В целом, в первые послевоенные годы два господствующих идеологических направления — прославление тысячелетней истории России как предыстории СССР и русифицированный советский миф о войне — прекрасно дополняли друг друга. Так, учительница из Московской области Панюшкина отмечает, что при изучении «таких тем, как борьба с татаро-монголами, борьба с немцами, с поляками, с Наполеоном и особенно темы "Великая Отечественная война" у учащихся воспитывается чувство патриотизма, чувство национальной гордости за наш великий народ и великую Родину» [759]. Объединенные руссоцентризмом, две параллельные пропагандистские линии были очень убедительны — если национал-большевизм конца 1930-х годов казался порой недостаточно революционным и «советским», то добавление мифа о войне придало сталинской идеологии необходимый современный, воинственный оттенок [760].
Разумеется, все вышесказанное не означает, что школьники в послевоенные годы отличались особыми успехами. Присущие советской системе образования недостатки — в первую очередь, неистребимый педагогический формализм и зубрежка [761], а также низкая квалификация преподавателей [762], трудные для понимания, имеющиеся в ограниченном количестве или вовсе отсутствующие учебники [763] и высокий процент отсева учащихся [764] – усугубились во время войны, и потребовались годы, чтобы их изжить. Эти трудности возросли после реформы образования 1945 года, предписывавшей уложить всю программу по истории для третьего и четвертого класса в один год.
Отчеты по школьному образованию, поступавшие в эти годы из провинции, были не слишком обнадеживающими, но они дают ясное представление о том, какой материал учащиеся усваивали легче и какие темы давались им с трудом. Согласно отчету 1946 года, составленному в Горьком, школьники достаточно успешно справлялись с материалом «о героях и полководцах прошлого и настоящего: Александре Невском, Дмитрии Донском, Минине и Пожарском, Петре Первом, Сусанине, Суворове, Кутузове, Ленине, Сталине. Хорошо помнят учащиеся даты и события, связанные с этими именами, умеют рассказать о них…. Значительно слабее усвоен материал о рабочем и крестьянском движении, о свержении царской власти, о разгроме Колчака и Деникина, о пятилетках» [765]. В отчете за следующий год отмечалось, что даже хорошие ученики спотыкаются на таких абстрактных темах, как характер буржуазно-демократической революции 1905 года, отсталость русского империализма, движущие силы пролетарской революции и национальный вопрос. «Учащиеся не понимают учения Ленина о перерождении буржуазно-демократической революции в социалистическую, классовом источнике двоевластия, тактике и стратегии НЭПа». Посещавшие школьные занятия инспектора были обеспокоены тем, что «на уроках истории СССР часто отмечается идеализация роли Ивана III, Ивана IV, Петра I, иногда декабристов. Совершенно недостаточно преподаватели… используют в учебной работе высказывания классиков марксизма-ленинизма об отдельных исторических личностях, явлениях и процессах» [766].
Это отставание в области диалектического материализма объяснялось, разумеется, низкой квалификацией учителей, нехваткой или чрезмерной трудностью учебников и недостаточной подготовкой учащихся, не позволявшей им усваивать сложный материал. Руководители народного образования были вынуждены в конце 1946-1947 ^учебного года открыто признать, что хотя задача патриотического воспитания школьников была, в целом, выполнена, «далеко не все учащиеся имеют необходимое понимание причин и следствий, умеют дать этим событиям марксистско-ленинское объяснение» [767]. Иными словами, учащиеся, которых вели по объединенной идеологической линии, сочетавшей марксистско-ленинский анализ (обнищание рабочего класса, капиталистическое окружение и т. п.) с образами прошлого (Александр Невский, Дмитрий Донской и Иван Сусанин), в конце концов, усваивали лишь ключевые руссоцентристские, популистские и общеизвестные понятия. Хотя уровень преподавания в школах в этот период был во многих отношениях очень низок, от недовольства вышестоящих инстанций преподавателей спасал тот факт, что им удавалось привить школьникам патриотическое национальное самосознание.
Если преподавание в общеобразовательных школах в конце 1940-х годов вызывало у партийных руководителей беспокойство, то состояние дел в системе партучебы доводило их порой чуть ли не до истерики. ЦК издавал одну резолюцию за другой, в них он отчитывал местные партийные организации за недостаточную заботу о повышении образовательного уровня членов партии [768]. Это критическое положение создалось в результате войны, что не удивительно. В течение 1941-1945 годов тысячи советских граждан были приняты в партию, чтобы заменить погибших коммунистов и мобилизовать широкие массы на достижение победы в войне [769]. Многие из них, будучи пламенными патриотами, не имели никакого представления о партийной работе в мирных условиях. Согласно одному из официальных документов, «значительная часть [новых членов партии] отстала и не владеет элементарными знаниями по истории, теории и политике партии» [770].
Ответы председателя колхоза Вязниковского района Владимирской области Ф. С. Каулина, данные во время одного из опросов, подтверждают, что партийное руководство беспокоилось не зря. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года, Каулин не смог ответить даже на самые элементарные вопросы вроде «Когда была организована большевистская партия?» (Каулин полагал, что в 1917 году).
Когда разговор перевели на текущие события, он был не в состоянии назвать имя председателя Верховного Совета. Каулин оправдывался тем, что у них в глубинке нет возможности учиться: «Если бы у нас был кружок по изучению истории партии, я бы с большой охотой посещал его» [771]. Проверки, проведенные в других районах Владимирской области, показали, что и там положение не лучше. Вот некоторые из признаний опрашиваемых:
«Мне многое непонятно из истории ВКП(б). Хочу, чтобы мне разъяснили, что такое социализм, коммунизм, а мне об этом никто не рассказывает». [Катаева, работница Фабрики № 2 г. Коврова, член партии с 1944 года].
«Я еще мало знаком с уставом и программой партии, не знаю истории ВКП(б), тут мне нужна помощь. Хотя бы беседы проводили или задания давали и потом спрашивали… это бы мне помогло». [Волков, работник депо Казанской железной дороги в г. Муроме, член партии с 1945 года].
«В политическом отношении [я] совершенно отстал. «Краткий курс истории ВКП(б)» полностью прочитать мне так и не удалось самому, а в кружок меня никто не назначал. Устав ВКП(б) изучал перед вступлением в партию, но сейчас ничего не помню…» [Рогозин, рабочий Фабрики № 43 г. Мурома, член партии с 1943 года].
«Я хотела бы послушать беседы о том, что где делается, а то от жизни отстаю. Хотя бы по истории партии что-нибудь рассказывали. Я ведь «Краткий курс» еще в руках не держала». [Попова, работница Вязниковского завода им. Карла Либкнехта] [772].
Разумеется, не все коммунисты так охотно признавали свое невежество. К примеру, Репин, член парткома Георгиевской машинно-тракторной станции под Ставрополем, отвечающий за политическую агитацию на своем предприятии, настаивал в 1946 году на том, что знаком с «Кратким курсом». Однако после проверки инспекторы с отчаянием докладывали, что «Репин не знает, когда была Октябрьская социалистическая революция, не знает количества союзных республик в СССР, не мог назвать ни одного столичного города из союзных республик, на вопрос, кто является Председателем Совета Министров СССР, ответил "товарищ Жданов", не знает, кто Председатель Верховного Совета СССР». Его товарищ Тежик, председатель горисполкома, не смог ответить ни на один вопрос по истории партии. И, что было несравненно хуже, когда его спросили, что он читал «из нашей классической художественной литературы», он назвал первое имя, которое пришло ему в голову. На его несчастье, это был Зощенко, которого Жданов только что разнес в пух и прах в центральной прессе. У инспекторов волосы встали дыбом, а Тежик невозмутимо объяснил им, что на его работе разбираться в партийной идеологии не обязательно [773].
В то время как эти проблемы с членами местных парторганизаций вряд ли могли кого-нибудь удивить, гораздо большую тревогу партийного руководства вызвала докладная записка, полученная секретарем ЦК А. А. Кузнецовым в начале 1947 года и извещавшая его о том, что положение нисколько не лучше и с региональными отделами МГБ. К примеру, в Тамбове член партии Куяров не смог ответить на важнейшие вопросы по истории партии — кто такие народники, что происходило на II Съезде РСДРП. Не менее огорчителен был тот факт, что Куяров редко читал газеты и плохо разбирался в политике, в чем открыто признался. Товарищ Куярова, глава секретариата МГБ Стрелков, на вопрос, когда большевистская партия начала революционную борьбу, в замешательстве ответил, что в 1895 году. Незнание истории партии проявил и заместитель директора по кадрам Тамбовского отдела МГБ Васильев. Когда его спросили, почему же он не изучил этот предмет как следует, он не смутился и дал несколько загадочный ответ: «Голова не тем занята» [774].
Столь плачевные результаты проверки побудили партийное руководство расширить в 1947-1950 гг. систему партийной учебы до масштабов; невиданных за всю тридцатилетнюю историю СССР. До войны сеть школ политграмоты, кружков и вечерних курсов была довольно обширной, но в суровых условиях первой половины 1940-х годов она поневоле сократилась. Меры по устранению этого недостатка, предпринятые в конце десятилетия, можно считать квинтэссенцией сталинизма — как по их масштабу и быстроте претворения в жизнь, так и по их сути и методам осуществления. Количество членов партии, занятых изучением различных аспектов большевистского катехизиса, с 1947 по 1948 год возросло, по некоторым данным, с 3.818.000 до 4.491.000, что составляло, соответственно, 64% и 75% общего состава ВКП(б). Таблица 1 дает более полное представление об участии коммунистов в системе партучебы.
Таблица 1. Система партийной учебы, 1947-1949
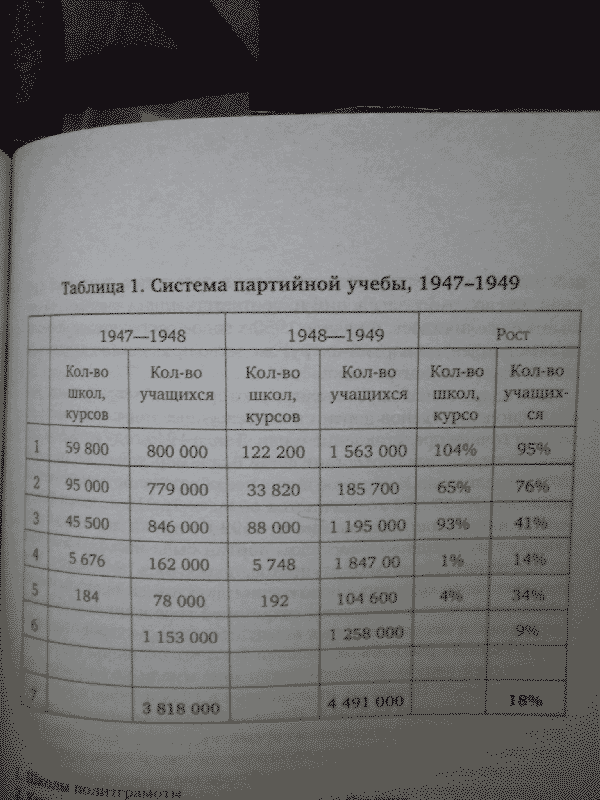
1. Школы политграмоты
2. Кружки по изучению биографии Ленина и Сталина
3. Кружки по изучению истории партии
4. Вечерние партшколы
5. Марксистско-ленинские университеты
6. Индивидуальная учеба
7. Итого
Источники: РГАСПИ 17/132/103/2; несколько более высокие цифры приведены в: РГАСПИ 17/132/105/67. См. также: Kees Boterbloem. Life and Death under Stalin: Kalinin Province, 1945-1953. Montreal, 1999. P. 132-133.
На основании этой таблицы можно сделать два основных вывода. Во-первых, наибольшего прироста участвующих удалось добиться на уровне элементарного обучения — школ политграмоты и кружков по изучению истории партии. Во-вторых, хотя сеть учебных заведений более высокого уровня осталась в основном прежней, число самих заведений и, соответственно, учащихся, также заметно увеличилось. В начале 1950-х годов рост системы несколько замедлился, но партийное руководство продолжало держать ее под неусыпным контролем [775].
Благодаря большому вниманию, которое уделялось повышению квалификации членов партии в послевоенные годы, мы имеем довольно точное представление о ней. Так, в 1945 году из 1.602 секретарей первичных парторганизаций Владимирской области 1.400 (87%) имели лишь начальное школьное образование или не имели никакого. Из 37.594 коммунистов области 16.116 человек (45%) имели начальное образование и 4.592 не имели даже его [776]. Ситуация с руководящим составом партии была несколько лучше, но ненамного. Из двухсот студентов, принятых в 1948 году в Московскую партшколу для прохождения двухлетней программы высшего уровня, — в основном, секретарей городских и районных парткомов и исполнительных комитетов, инструкторов и других ответственных работников — почти четверть окончила семь классов средней школы. Высшее образование имели не больше двадцати человек [777]. Проверки, проведенные в 1949 и 1950 годах, дали примерно такие же цифры [778]. После пятнадцати лет выдвижения по номенклатурной лестнице во время чисток и войны члены партии владели лишь маргинальной грамотностью и были практически не способны мыслить на более абстрактном уровне.
Хотя в программу системы партийного образования конца 1940-х годов входили такие предметы, как диалектический материализм, политэкономия и международные отношения, по многим параметрам она почти не отличалась от школ политграмоты 1920-х. Основными предметами были история партии и история СССР – в Московской партшколе им была посвящена пятая часть двухгодичной программы. Сопоставимым с ними по количеству учебных часов было только изучение русского языка и литературы, которое было необходимо для овладения функциональной грамотностью. Эти предметы рассматривались как профилирующие не только в московских кружках, но и на курсах, семинарах и консультациях по всей стране [779].
Чаще всего, изучение истории партии сводилось к пересказу текстов «Краткого курса истории ВКП (б)». Все учебные планы, дискуссии, задания и экзамены были ориентированы на это издание [780]. Даже тем из учащихся, кто более или менее усвоил содержащийся в этом учебнике материал и хотел перейти к более основательным пособиям, рекомендовали прочесть «Краткий курс» еще раз [781]. И это был весьма разумный совет, если учесть низкий уровень общего образования коммунистов [782]. Они и «Краткий курс» находили трудным для восприятия, в особенности, один из разделов IV главы, «О диалектическом и историческом материализме», смысл которого был слишком абстрактным для них [783]. Поэтому преподаватели, не имея возможности заменить этот учебник другим, старались дополнить его менее заумными пособиями, излагавшими тот же материал в более доступной форме [784]. В одном из внутренних документов Агитпропа 1945 года говорилось, что «коммунисты с низкой общей и политической грамотностью еще не могут изучать "Краткий курс истории ВКП (б)" и нуждаются в популярных беседах по текущей политике, истории партии, уставу ВКП(б)». Сталин тоже признал это год спустя в беседе с ведущими идеологами партии [785]. Воспользовавшись этим, Агитпроп поспешил выпустить в конце 1940-х – начале 1950-х годов целую серию дополнительных брошюр, проспектов, учебных планов и списков литературы, которые должны были помочь коммунистам в освоении партийного катехизиса [786].
Помимо неудобочитаемости, с «Кратким курсом» возникала еще одна сложность. Хотя он постоянно издавался в послевоенную эпоху, «Краткий курс» по-прежнему выходил в издании 1938 года и в контексте поздних 1940 годов радикально расходился с официальной пропагандой [787]. Понятно, что никакого упоминания о закончившейся войне в учебнике не было. И, что не менее важно, он был написан слишком рано, чтобы отразить то огромное воздействие, какое оказал на мировоззрение советских людей национал-большевизм с его основополагающими догматами — популизмом, руссоцентризмом и идеей сильной государственной власти. В результате, изучающим «Краткий курс» трудно было связать его с реальностью послевоенного советского общества [788]. Отчасти этот недостаток возмещался публикацией сталинской работы «О Великой Отечественной войне», в которой воспроизводились его знаменитая речь 7 ноября 1941 года и послевоенный панегирик русскому народу. Той же цели служило в конце 1940-х годов издание таких книг, как «Наша великая Родина», где создавался руссоцентристский контекст, в который удачно вписывались цитаты из «Краткого курса» [789].
Стремление приспособить программу обучения к возможностям учащихся видно также на примере популярных лекций, читавшихся в Московской области в 1946 году: «1) Речь т. Сталина от 9.02.46 г.; 2) лекции по истории СССР; 3) лекции по развитию русской живописи, русского театра и русской музыки; 4) лекции по 4-й сталинской пятилетке» [790]. Работа школьных кружков по повышению политической грамотности комсомольцев также была пронизана руссоцентризмом, в них обсуждались такие вопросы, как «патриотизм русских людей», «заслуги русских ученых в развитии биологических наук», «история русской живописи» [791]. Организованные для коммунистов курсы по изучению истории партии по своему содержанию часто почти не отличались от школьной программы.
Хотя изучающие историю партии и советского государства, как правило, не обладали блестящими знаниями, их оценки по этому предмету были обычно выше, чем по другим дисциплинам, преподававшимся в системе партучебы [792]. По-видимому, это объяснялось тем привилегированным положением, какое занимала история среди других наук в течение предыдущего десятилетия, а также специфическими задачами партийного образования. При этом успехи учащихся в изучении истории страны были куда выше, чем в изучении истории партии — первая из них была знакома им еще со школьных лет и более доступна для понимания [793]. Учебные программы на партийных курсах и в кружках были довольно примитивны по содержанию, и, несмотря на недостаточные педагогические способности преподавателей, их слабое знание материала и формализм их методов обучения [794], учащимся, несомненно, удавалось что-то усвоить. Разумеется, усваивали они в первую очередь то, что касалось русской истории и мифа о войне, а не диалектический материализм «Краткого курса», но ведь именно это и было основной задачей политического просвещения масс.
Некоторые исследователи придерживаются мнения, что «ждановщина» сместила центр общественного интереса с прошлого на настоящее. В данной главе эта точка зрения оспаривается на основании анализа учебного процесса в двух важнейших инстанциях идеологического воспитания советских граждан — в общеобразовательных школах и в системе партийной учебы. Хотя и тут, и там большое внимание, несомненно, уделялось мифу о войне и вопросам «советского» характера, главным предметом оставалась русская история. Это несколько парадоксальное положение объясняется тремя основными особенностями идеологического просвещения масс в первые послевоенные годы.
Во-первых, идеологи стремились привить людям «советское самосознание», основываясь на сочетании русских символов и образов с общесоюзными. Во-вторых, проводившаяся в эпоху «ждановщины» борьба с идеализацией прошлого пагубно сказалась на развитии национальной культуры и самосознания нерусских на родов, но не ослабила сколько-нибудь существенно руссоцентризм официального подхода к истории. В-третьих, чтобы как-то довести до сознания учащихся трудный для усвоения и зачастую непонятный идеологический материал, преподаватели в эти годы, как и до войны, придерживались популистской, руссоцентристской линии в пропаганде идей национал-большевизма. Неразбавленный марксизм-ленинизм с его диалектическим материализмом был все же не по зубам большей части населения РСФСР, что усугублялось неблагополучной ситуацией с преподавательскими кадрами и учебными пособиями.
Так что в итоге руссоцентристский нарратив истории СССР, созданный Шестаковым во второй половине 1930-х годов, оставался спустя десятилетие испытанной и надежной формой мобилизации широких масс, и отказываться от привычного и понятного взгляда на исторический процесс не хотел никто — ни партийные руководители, ни преподаватели, ни учащиеся. Принятый после 1937 года подход к трактовке истории был достаточно эффективен, жизнеспособен и гибок, чтобы пережить самого Сталина.
Глава 13
Советская массовая культура в послевоенный период
Вторая половина 1940-х и начало 1950-х годов в Советском Союзе традиционно считается временем апофеоза сталинского культа, ксенофобии и воинствующей коммунистической идеологии. Но в эти же годы в массовой культуре достаточно громко звучали и иные мотивы. В частности, руссоцентристские лозунги, пропагандирующие миф о войне, сочетались в официальных празднествах, в литературе, театре, кино и музейных экспозициях с мотивами русской истории. В этой главе рассматриваются формы, в которых осуществлялась эта пропаганда во время «ждановщины» и в первые годы после нее, и делается вывод, что широкое распространение национал-большевистской символики в первое послевоенное десятилетие требует корректировки традиционной точки зрения на развитие советской массовой культуры в этот период.
В 1947 году торжественно отмечалась 110-я годовщина со дня смерти «основателя русского литературного языка» А. С. Пушкина» Все мероприятия проводились под флагом руссоцентризма и удивительно напоминали те, что устраивались в связи со 100-летней годовщиной смерти поэта в 1937 году. Ведущий пушкинист Д. Д. Благой прочитал лекцию о значении Пушкина как «великого национального поэта», которая транслировалась по радио на всю страну [795]. Некоторые из выступавших во время торжеств отзывались о поэте как о революционере, боровшемся с царским режимом [796], но большинство стремились представить его, подобно Благому, как символ всей русской нации, ее «национальную гордость», Президент Академии наук СССР С. И. Вавилов вопрошал с трибуны на одном из торжественных собраний:
«В чем могучая, притягательная сила пушкинского гения, сила, не ослабевающая, а наоборот, возрастающая с годами, почему Пушкин был любимым поэтом Ленина, почему Сталин в решающие дни Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года назвал Пушкина в ряду великих имен, составляющих гордость и славу русского народа? Ответ на эти вопросы состоит в том, что Пушкин был и остается подлинным народным поэтом, настоящим «эхом русского народа», по его собственным словам. В Пушкине сосредоточились лучшие стороны великой нации, ее простота, широта, любовь к людям, любовь к свободе, тонкий ум и необычайное чувство красоты. Слава великому русскому поэту! Слава великому русскому народу, давшему миру Пушкина» [797].
Речь Вавилова, сочетавшая руссоцентристский популизм и стремление объединить русское прошлое и советское настоящее под знаком культа личности Сталина, наглядно демонстрирует, как глубоко была пронизана национал-большевизмом вся советская массовая культура того времени [798]. Сталина, казалось, цитировали больше, чем Пушкина. С. В. Чесноков в своем славословии поэту XIX века, перефразировал сталинский панегирик русскому народу, произнесенный в 1945 году: Пушкин — «великий сын русского народа…. Имя Пушкина неразрывно связано со светлым образом нашей любимой Родины. В своих произведениях великий поэт раскрыл лучшие черты русского народа, его беззаветную преданность Родине, его мужество и стойкость в борьбе за свободу, его ясный ум и изумляющую мир талантливость. Горячий патриотизм, воспевание свободы – делают творчество Пушкина бессмертным» [799]. Понятия родины и патриотизма в выступлении Чеснокова были свободны от «советской» семантики, несмотря на приближение 30-й годовщины Октябрьской революции; он не стремился связать успехи советской власти с именем Пушкина, но зато с откровенным этническим партикуляризмом ударился в прославление исконных черт русского национального характера. Поэт Н. С. Тихонов, выступая в те же дни в Союзе писателей, повторил многие руссоцентристские общие места, затронутые Чесноковым. Правда, в отличие от Вавилова и Чеснокова, он удержался от реверансов в адрес Сталина, но использовал руссоцентристские образы с еще большей помпой. Он назвал Пушкина «верным сыном, первым поэтом русской земли» и обратился к нему с речью:«[Александр Сергеевич], ты передал поколениям черты русского характера, его великокачес-твенные особенности, его беспримерную силу, его созидательную мощь. Ты раскрыл с огромной поэтической ясностью душу и сердце русского человека, красоту его нравственного облика, все величие русского народа в его исторических трудах. Ты почувствовал его скрытые силы и его прекрасное будущее, спасительное для человечества…» [800] В то время как подобный популизм в устах рядового советского человека никого бы не удивил [801], в выступлениях Вавилова, Чеснокова и Тихонова, представляющих обычно сдержанную в этом отношении интеллигенцию, он свидетельствовал о том, что этот тон был продиктован свыше, партийным руководством.
Позже в том же году, между торжествами по поводу 110-й годовщины со дня смерти Пушкина и 30-летия Октябрьской революции, состоялось еще одно сомнительно «советское» празднество: 800-летие основания Москвы. Оно отмечалось в сентябре 1947 года и было первым большим всесоюзным праздником после Дня Победы. Город украсился образцами наглядной агитации, призванной возродить атмосферу ушедшей эпохи [802]. Поскольку 1147 год был датой не только основания Москвы, но и, соответственно, начала Московского государства, столица была провозглашена «национальным центром русского народа» [803]. В переполненных московских аудиториях читались в августе и сентябре лекции на темы «Москва, организатор русского народа», «Дмитрий Донской» и подобные им. В концертных залах исполнялись «Московская кантата» В. Я. Шебалина, «Куликово поле» Ю. А. Шапорина, «Александр Невский» С. С. Прокофьева и увертюра «1812 год» П. И. Чайковского [804]. 7 сентября в «Правде» было даже опубликовано приветствие Сталина Москве, немало послужившей всему отечеству. В этом обращении Сталин не преминул повторить два своих излюбленных тезиса — о преемственной связи между Московией, Российской империей и Советским Союзом и о значении централизованной государственной власти в истории России:
«Заслуги Москвы состоят не только в том, что она на протяжении истории нашей Родины трижды освобождала ее от иноземного гнета — от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от французского вторжения. Заслуга Москвы состоит, прежде всего, в том, что она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством, с единым руководством. Ни одна страна в мире не может рассчитывать на сохранение своей независимости, на серьезный хозяйственный и культурный рост, если она не сумела освободиться от княжеских неурядиц. Только страна, объединенная в единое централизованное государство, может рассчитывать на возможность серьезного культурно-хозяйственного роста, на возможность утверждения своей независимости. Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остается основой и инициатором создания централизованного государства на Руси» [805].
На фоне столь мощного потока исторических символов и достижений недавние лозунги «ждановщины», направленные против идеализации московских князей и царей, но никогда не выходившие на первый план, теперь окончательно побледнели [806]. Правда, на расположенном неподалеку от Кремля Доме Союзов было растянуто шелковое полотнище со знаменитым высказыванием Жданова «Мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та», но, похоже, мало кто обращал внимание на эту попытку сдержать всеобщий порыв восхищения дореволюционной эпохой [807]. Кульминацией празднеств стало объявление об установке памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому на Советской площади в самом центре города [808]. Юрий Долгорукий должен был сменить обелиск, возведенный на площади в годы революции, и, сидя на коне по одну сторону улицы Горького, величественной столичной магистрали, взирать на стоящее напротив недавно отреставрированное здание Моссовета и спиной к Институту Маркса-Энгельса-Ленина. Возведение памятника, завершенное только в 1954 году, явилось знаменательным событием в истории города, поскольку памятники всегда считались важнейшими материальными и символическими достопримечательностями городского пейзажа [809]. Тем временем газеты отводили десятки колонок под публикацию статей о других жителях Москвы, прославившихся в самых разных областях — политике и военном деле (Дмитрий Донской, Кутузов), литературе (Пушкин) и т. д. [810].
Имя Пушкина было в 1947 году на устах у всех. Материалы, связанные со 110-й годовщиной его смерти, публиковались в таком количестве, превзойти которое удалось лишь спустя 22 месяца, когда в 1949 году праздновалось его 150-летие. К тому моменту пропагандируемый официально культ поэта достиг беспрецедентного размаха — только в 1949 году его произведения были изданы общим тиражом около 45 миллионов экземпляров [811]. На празднестве, устроенном в Большом театре, Фадеев с гордостью сказал, что книги поэта можно найти практически в каждом советском доме, у каждой семьи. Как отмечает один из ведущих специалистов, во время юбилея была выпущена масса посвященных поэту статей, брошюр, очерков; о Пушкине говорили на лекциях и по радио; издавались стихи и поэмы, романы, рассказы и пьесы, сочиненные на пушкинские сюжеты или описывающие его жизнь; произведения Пушкина инсценировались, экранизировались и записывались на радио, их клали на музыку, по ним ставились балеты; появилось множество скульптурных, живописных и графических портретов классика, он взирал с плакатов и произведений прикладного искусства; произведения самых разных литературно-художественных жанров иллюстрировали его жизнь и творчество. Памятные мероприятия — открытия монументов, выставки, конкурсы и проч. — устраивались по всей стране целый год. Музеи поэта были открыты в «городе-памятнике» Пушкине и в Михайловском, где после разрушения нацистскими захватчиками была восстановлена усадьба семьи Пушкиных [812]. Юбилейные торжества приняли такой размах, что даже партийные руководители, далекие от литературы, были вынуждены принимать в них активное участие. Так, псковская партийная организация обращалась к ряду государственных деятелей — от К. Е. Ворошилова до М. А. Суслова — с просьбой выделить средства для восстановления Михайловского [813]. Ажиотаж большей силы наблюдался только в связи с празднованием 70-летия Сталина в декабре 1949 года.
Статус Пушкина как одного из любимейших авторов эпохи, разумеется, отражал немеркнущую популярность русской классической литературы среди населения РСФСР. О ней свидетельствуют результаты опросов читательских предпочтений, проводившихся после войны. Так, самым любимым писателем выпускников высших школ г. Челябинска оказался Лев Толстой, за ним шли Горький, Пушкин, Лермонтов, Шолохов, Маяковский, Фадеев, Н. А. Островский. Любимые герои расположились в следующем порядке: Павел Корчагин, Андрей Болконский и Наташа Ростова, Татьяна Ларина, Павел Власов. Аналогичные результаты были получены и участниками более масштабного «Гарвардского проекта» по исследованию советской социальной системы, осуществленного в 1950-1951 годы. Они также подтвердили, что русская классика пользуется большим авторитетом в советском обществе — больше, иногда, чем самые известные работы социалистического реализма. Например, один из опрошенных прямо заявил: «Я читаю старых писателей, а советских не читаю. Я предпочитаю Толстого и Пушкина Горькому и даже Шолохову» [814].
Но подобное отношение было исключением. Произведения авторов социалистического реализма читались в Советском Союзе повсеместно. При этом современные писатели во многом ориентировались на русскую классику и проявляли большой интерес к истории. Так, в 1946 году была посмертно опубликована третья часть романа А. Толстого «Петр Первый» [815]. В то же время Осипов выпустил новую книгу, посвященную Семилетней войне и озаглавленную «Дорога на Берлин». На следующий год Костылев завершил трилогию об Иване Грозном [816]. В том же 1947 года Ю. Слезкин опубликовал роман о Брусилове, а Л. И. Раковский закончил своего «Генералиссимуса Суворова». Воспользовавшись успехом этой книги, а также двух биографий адмирала Ушакова, написанных сразу после войны М. Яхонтовой и Г. Штормом, Раковский выпустил в 1952 году роман «Адмирал Ушаков» [817].
Нет ничего удивительного в том, что авторы биографий и исторических романов обращались к таким темам; более интересно, что и писатели, отображавшие современную действительность, также очень часто использовали образы народного прошлого. Б. Н. Полевой, описывая в своей знаменитой «Повести о настоящем человеке» поле боя, увиденное Алексеем Мересьевым, проводит параллель с картиной В. Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами»:
«Всюду мертвые фигуры в ватниках и стеганых штанах, в грязновато-зеленых френчах и рогатых пилотках, для тепла натянутых на уши; торчат из сугробов согнутые колени, запрокинутые подбородки, выпятившиеся из наста восковые лица, обглоданные лисами, обклеванные сороками и воронами.
Несколько воронов медленно кружились над поляной, и вдруг напомнила она Алексею торжественную, полную мрачной мощи картину Игоревой сечи, воспроизведенную в школьном учебнике истории с полотна великого русского художника» [818]
Перенесение образов средневекового эпоса, запечатленных в известном произведении живописи, в повесть о Второй мировой войне выполнено мастерски. Картина Васнецова была выставлена перед войной в Третьяковской галерее и получила широкое освещение в прессе; она придала повествованию Полевого эпическое звучание, которого он не смог бы добиться с помощью образов и символов советской эпохи. В. Ажаев в своем романе «Далеко от Москвы», отмеченном Сталинской премией, хотя и уступающем книге Полевого по своим художественным достоинствам, также апеллирует к культурным ценностям, которые обладают непреходящим авторитетом благодаря своей мифологической природе. Один из героев романа, инженер, мечтает о том, как выскажет своему товарищу все, что он думает по поводу его неверия в успех постройки военного объекта: «Смотрю я на вас, Петр Ефимович, и не понимаю: по какому праву зовете вы себя русским? Где размах ваш русский, где любовь ваша к новому? Что русского в вас осталось?» [819] Как показывают эти два примера, даже при обращении к злободневным темам писатели послевоенной эпохи не могли обойтись без помощи догматов национал-большевизма.
Хотя многие авторы искренне разделяли этот сугубо положительный взгляд на русскую историю, перед цензорами была поставлена задача следить за соблюдением официальной линии. Главлит призвал современных писателей воздерживаться от открытого поношения старого режима. Г. Ермолаев в своем исключительно ценном исследовании деятельности государственной цензуры скрупулезно перечисляет редакторские исправления в романах, изданных после войны, — в частности, в «Степане Разине» А. П. Чапыгина, «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского, «Брусках» Ф. Панферова. Главлит стремился усилить руссоцентристское звучание произведений современной литературы, убирая детали, характеризующие русских с отрицательной стороны или выражающие симпатию автора к представителям других национальностей. Особенно грешили этим Панферов в своих «Брусках», Вс. Иванов в пьесе «Бронепоезд 14-69» и Шолохов в «Тихом Доне» [820]. Кроме того, из библиотек и букинистических магазинов были изъяты старые издания этих произведений, как и литература, изданная в странах Западной и Центральной Европы и ввезенная в СССР возвращающимися домой красноармейцами [821].
Радио в те годы играло во многих отношениях не менее важную роль, чем литература, и власти считали его действенным средством просвещения и мобилизации масс. Как и во время войны, по радио транслировались речи и лекции, однако центральное место в программах занимали музыкальные передачи [822]. Интерес радиослушателей к русской классической музыке и народным песням был по-прежнему высок, что объяснялось отчасти традиционной популярностью этих жанров и отчасти тем, что в период «ждановщины осуждалось «низкопоклонство» перед зарубежными классиками –Бетховеном, Бахом, Шопеном. Один из ленинградцев по фамилии Шаров высказал эту точку зрения в 1952 году, написав руководству всесоюзного радио, что европейских классиков, конечно, можно транслировать время от времени, но прежде всего надо передавать музыку «наших великих русских композиторов — Чайковского, Глинки, Мусоргского» [823]. Другие занимали и вовсе непримиримую позицию, спрашивая, «почему так много передается иностранных опер (Верди, Пуччини и др.) и так мало русских?» Люди хотели слушать такие оперы, как «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Русалка» и другие дореволюционные шедевры [824].
Некоторые считали, что радио должно расширить свой репертуар и включить в него более популярный и доступный материал — «хорошие песни, музыку да театральных спектаклей». После тягот войны публика предпочитала народные песни, и прочую легкую музыку. Характерно в этом отношении письмо, присланное в Государственный комитет по радиовещанию слушателем из подмосковной деревни Долгопрудная. Он призывал уделять больше внимания русским народным ансамблям и добавлял с бесхитростным шовинизмом, что «в простой день кроме пропаганды ничего не услышишь, да разной чувашской, мордовской, китайской, албанской и тому подобной музыки» [825]. Эти пожелания, выраженные в просторечной манере, отражают двойное направление послевоенной пропаганды и склонность широких масс ко всему русскому — как относящемуся к далекому прошлому, так и связанному с недавней войной.
Те же факторы, которые определяли по преимуществу классический характер радиопередач, действовали в драматическом и оперном театре, где преобладали обновленные постановки канонических произведений или новые, созданные на старые темы. К написанным во время войны пьесам вроде «Генерала Брусилова» Сельвинского или «Великого государя» Соловьева, а также другим довоенным и дореволюционным драмам добавлялись такие, как «Полководец Кутузов» Л. Бехтерева и А. Разумовского [826]. МХАТ, по подсчетам одной из газет, в сезоне 1947-1948 годов уже в 912-й раз показал драму А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» [827]. Классические оперы — «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского и «Руслан и Людмила» Глинки ставились параллельно с только что созданными произведениями вроде «Войны и мира»
С. Прокофьева, «Севастопольцев» М. Коваля и «Дмитрия Донского» В. Крючкова [828]. Хотя поначалу в период «ждановщины» постановщикам приходилось изощряться, чтобы спектакль не обвинили в идеализации прошлого, в 1948 году, после того как Жданов лично санкционировал постановку русской классики, оперы типа «Ивана Сусанина» вновь заполонили сцену. Поддержка консервативных вкусов и традиционного репертуара, «красивой, изящной» музыки, музыки, способной удовлетворить «эстетические потребности и художественные вкусы советского народа», побудила государственные театры сосредоточиться на знакомых, зарекомендовавших себя классических произведениях [829].
При этом, как и во всех других аспектах политики периода «ждановщины», благосклонностью руководителей страны пользовались исключительно произведения русского классического канона. Никаких попыток возобновить постановки опороченных пьес и опер нерусского происхождения не делалось [830]. Русская классика — Глинка, Островский, Толстой, Чайковский и др. — не сходила в послевоенные годы со сцен республиканских театров. Тем самым республиканские партийные организации пытались искупить «националистические» промахи, допущенные по неосторожности во время войны. Так, Киевская опера показала публике в сезоне 1946-1947 годов «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» Чайковского и «Царскую невесту» Римского-Корсакова [831]. Аналогичным образом руководила репертуарной политикой коммунистическая партия Казахстана [832]. Осенью 1945 года известные театральные коллективы РСФСР направлялись на гастроли в Киев, Баку, Ригу и Алма-Ату — отчасти для того, чтобы показать местным властям, каков должен быть репертуар их театров. В последующие годы эта политика русификации была усилена путем создания в республиках постоянно действующих русских театров [833]. Как покровительственно заметил автор одной из статей в центральном журнале «Театр», «постановка русских классических пьес на национальных сценах имеет большое культурно-политическое и художественно-воспитательное значение» [834].
Предъявлявшееся республикам во время «ждановщины» требование ограничить «прославление ханов» подрезало крылья не только национальным театрам, но и кинематографии. В период с 1946 по 1955 год вне РСФСР не было выпущено практически никаких новых спектаклей или фильмов [835]. По контрасту с этим, киностудии РСФСР сняли за первое послевоенное десятилетие почти два десятка лент, посвященных русским военачальникам, ученым, писателям и композиторам дореволюционной эпохи (что доказывает, что ограничения ЦК, касающиеся репертуара, соблюдались в отношении русских учреждений культуры не так строго, как в отношении республиканских) [836]. Героями большинства этих фильмов были русские ученые XIX века, чей талант якобы игнорировался царским режимом и эксплуатировался беспринципными иностранцами. Наиболее ярко эта точка зрения выражена, пожалуй, в заключительной сцене фильма «Александр Попов», герой которого произносит патриотическую речь о своей преданности русскому народу вопреки препятствиям, которые ему чинит царское Министерство иностранных дел, и настойчивым выгодным предложениям одной из крупных британских компаний: «Всю свою жизнь я искал средство связи между людьми, но с годами мне стало ясно, что связь эта остается бессильной, если не будет опираться на прочную и справедливую связь между людьми в самом устройстве человеческого общества. Только та наука жива и прекрасна, которая крепит эту связь, и мы вправе гордиться, что наша наука, наука России, всегда почитала первым и священным своим долгом служение народу. Отдадим же все наши силы и знания на благо народное, славу и счастье нашей Родины». Другие художественные фильмы из этой серии были посвящены хирургу Н. И. Пирогову, селекционеру И. В. Мичурину, физиологу И. П. Павлову, авиаконструктору Н. Е. Жуковскому и путешественнику Н. М. Пржевальскому [837]. Руссоцентризмом были пронизаны и другие кинофильмы. Утверждалось, что творчество гениальных русских композиторов и писателей (Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Белинского и др.) уходило корнями исключительно в русскую почву и никак не отражало европейского опыта [838]. Адмиралы Нахимов, Ушаков и Рожественский совершали такие же подвиги на море, какими отличались Александр Невский и Кутузов на суше [839]. Руководящие деятели советской кинематографии в конце 1940-х – начале 1950 годов придерживались линии, согласно которой (перефразируя памятное высказывание Ю. Слезкина) русская наука всегда была самой научной, русское искусство — самым популярным, а русские солдаты — самыми храбрыми в мире.
Кинематограф неустанно выпускал все новые произведения на темы исторического канона. Такие исторические фильмы, как «Петр Первый», «Богдан Хмельницкий», «Степан Разин» не сходили с экрана в течение всего этого периода [840]. Во время юбилейного кинофестиваля, приуроченного к празднованию 800-летия Москвы, демонстрировались и другие старые ленты [841]. Наряду с документальными фильмами, посвященными столице, были показаны такие художественные фильмы, как первая серия «Ивана Грозного» Эйзенштейна (которая была в свободном прокате несмотря на значительные сомнения, имевшиеся у цензоров) и, разумеется, не вызывавшие сомнений «Минин и Пожарский», «Суворов» и «Кутузов», которые оказывали на публику не менее сильное вдохновляющее воздействие, чем традиционные печатные издания [842].
Направляющая рука партии наводила порядок не только на полках библиотек, в программах радиопередач, на театральных сценах и киноэкранах, но и на стендах советских музеев. Так, весной 1946 года в Эрмитаже с большой помпой была вновь открыта выставка «Военное прошлое русского народа», а несколько месяцев спустя — экспозиция «История русской культуры» [843]. Аналогичные выставки проводились и в столице. В августе 1947 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала фотографию группы посетителей Третьяковской галереи перед двумя самыми известными картинами Васнецова — «Богатыри» и «Царь Иван Васильевич Грозный» [844]. Некий Радюк оставил запись в книге отзывов галереи: «Вы входите в залы Третьяковской галереи, и вас сразу приковывает та внутренняя сила, которая пробуждается мгновенно при легком взгляде, глядя на исторические алмазы-картины великих художников». Заканчивался отзыв словами Пушкина: «И вы говорите "здесь русский дух, здесь Русью пахнет"». Такие же впечатления остались спустя несколько месяцев у студентов Института международных отношений: «Ясным и взволнованным языком т. Разумовская рассказала нам о национальном искусстве художников-передвижников: Перова, Крамского, Васнецова, Репина и др., о национальном русском быте, то грустном, то веселом, то с напряженно-задумчивым колоритом, через который все-таки победоносно сквозит удаль и богатырская сила народная. Мы с увлечением смотрели и пейзажи, любуясь прелестью русской природы, нежной, с богатыми переливами оттенков» [845]. Через некоторое время в музее имени Пушкина проводилась выставка русского графического искусства [846]. В Ленинграде, Воронеже и Астапово открылись новые мемориальные музеи, связанные с именами Н. А. Некрасова, И. С. Никитина и Л. Н. Толстого. На одной из главных магистралей Ленинграда был возведен памятник Н. Г. Чернышевскому [847]. К 110-й годовщине со дня смерти Пушкина в начале 1947 года была стахановскими темпами восстановлена разрушенная во время бомбежки мемориальная квартира поэта на Мойке [848]. Такой же ударной была работа по подготовке Москвы к празднованию ее 800-летия в сентябре 1947 года [849].
Музеи, как и кинематограф, вели в конце 1940-х – начале 1950 годов активную популяризаторскую работу, в том числе по изданию множества различных руководств для учителей и прочих педагогических пособий [850]. Издавались специальные брошюры для посетителей разных возрастов, в которых указывалось, как именно надо понимать то, что в музеях выставлено. Примером может служить путеводитель к экспозиции XVI века, выпущенный Историческим музеем и начинающийся с цитаты о сильной государственной власти из приветствия Москве, произнесенного Сталиным в 1947 году [851]. Как показывают многочисленные свидетельства, эти старания не пропадали даром и находили отклик в сердцах советских граждан. Инспектор Московского отдела народного образования А. Н. Хмелев докладывал в 1947-1948 учебном году, что внеклассная педагогическая работа в городских школах не отличается разнообразием, но по крайней мере культпоходы в музеи проводятся регулярно. Заслуга в этом, по мнению Хмелева, принадлежала прежде всего самим музеям, которые широко пропагандировали свои экспозиции и охотно принимали школьников. Особенно больших успехов в популяризации культурного наследия достигли Государственный исторический музей, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Музей искусства народов Востока [852]. Подтверждением высказанного Хмелевым мнения, что посещение музеев имеет большое педагогическое значение, служит запись в дневнике школьницы Т. П. Мазур, отметившей культпоход в Исторический музей как знаменательное событие в скучной череде школьных будней [853].
В послевоенные годы усилиями массовой культуры русскоговорящее население было всесторонне охвачено пропагандой национал-большевизма. Издательства, театры, кинематограф, радио, музеи и выставки проповедовали верность советскому государству, применяя популистские методы, заключавшиеся в обращении к русскому прошлому и руссоцентристской трактовке последней войны. Хотя «партийность» и культ личности Сталина в послевоенный период были, несомненно, частью советской массовой культуры, ее национал-большевистский уклон был ключевым средством партийной пропаганды. Опираясь на авторитет классики, национал-большевизм начиная с середины 1930-х годов использовал в своих интересах популярные образы и символы русской истории, стараясь сделать этот материал как можно более доступным для широких масс.
После 1945 года национал-большевизм стал вести пропаганду по двум новым направлениям. Во-первых, распространялся руссоцентристский миф о войне — то есть, представление о том, что русский народ внес основной вклад в победу над нацистской Германией. Во вторых, в 1944 году зародилось, а с наступлением «ждановщины» в 1946 году набрало силу стремление принизить участие других народов в жизни государства. Эти два фактора резко усилили позиции национал-большевизма в советской культуре. Как отмечалось в Главе 11, военная тема позволила сделать советскую пропаганду более разнообразной и придать более активный, воинственный характер наметившейся в 1937 году линии на возвеличивание строителей государства прошлых веков. В следующей главе книги рассматривается, как повлияла пропаганда 1937-1947 годов на менталитет советских граждан.
Глава 14
Воздействие идеологии на массы в последнее десятилетие сталинского режима
При известии о капитуляции нацистской Германии в мае 1945 года одна работница московского Завода имени Фрунзе по фамилии Воронкова воскликнула: «Душа переполнена радостью. Я горда тем, что я русская, что мы работаем под руководством великого Сталина» [854]. Рабочий ортопедической фабрики Москвитин выразил свое отношение к победе примерно такими же словами: «В разгроме гитлеровской Германии, в спасении народов Европы от фашистской чумы сыграл великую историческую роль русский народ. Теперь, после войны, русский народ во главе с великим Сталиным идет в авангарде борьбы за организацию прочного и длительного мира» [855]. Победа заставила советских людей вспомнить и историю, о чем свидетельствует хотя бы высказывание, приписываемое стахановцу Бухарову с Машиностроительного завода имени Орджоникидзе, в котором он использовал метафору, встречавшуюся в одной из пьес, популярных во время войны: «Германские человекоубийцы несут теперь ответственность за свои злодеяния. Берлин третий раз отдает ключи от города нашим русским войскам» [856].
Картина общественного мнения в 1945 году, вырисовывающаяся на основе донесений осведомителей, говорит о том, что национал-большевистская пропаганда военного времени способствовала формированию у русских людей чувства национальной идентичности. Аналогичные сведения, полученные в 1950-1951 годы из самых разных источников — начиная с информационных сводок ответственных органов и кончая частными письмами, дневниками, воспоминаниями и интервью, — показывают, что, в отличие от середины 1930-х годов, к концу 1940-х уже очень многие могли внятно сформулировать свое понимание того, что значит быть представителем русского народа. Люди говорили о своей принадлежности к русской нации либо цветистым языком метафор («дружина русских воинов»), либо иносказательно — с помощью полумифических героических образов (Иван Сусанин), либо авторитетным тоном официального выступления («самая выдающаяся нация»). Так
что, если разобраться, ощущение своих русских корней служило в период развитого сталинизма гораздо более важным признаком национального самосознания, чем это представлялось до сих пор историкам [857].
Приведенные выше высказывания трех рядовых москвичей — Воронковой, Москвитина и Бухарова — достаточно полно характеризуют мировоззрение русских в конце войны. Оно представляло собой уже не просто сплав русского и советского самосознания, но было проникнуто уверенностью в исключительности своей нации. Несомненно, этому способствовал и произнесенный Сталиным в мае 1945 года панегирик русскому народу, его «ясному уму, стойкому характеру и терпению». Один из осведомителей передал московской парторганизации слова инженера авиационного завода Денисова: «Хорошо сказал товарищ Сталин о русском народе. Особенно глубоко тронули меня слова, где товарищ Сталин говорит об отношении русского народа к своему правительству, о твердости характера русского человека, о его выносливости. Действительно, только русские люди могли вынести такие тяжести войны и не дрогнуть перед смертельной опасностью». Инженер Завода № 836 Солейко, разделявший чувства Денисова, подхватил как сталинскую похвалу русскому народу, так и его мысль о том, что роль русских в победе над врагом не сопоставима с вкладом других народов СССР: «Выступление товарища Сталина вызвало у всех нас не только восхищение, но и гордость. Очень важно было подчеркнуть ведущую роль русской нации, которая сумела все свои черты и лучшие традиции передать другим национальностям Советского Союза и повести их за собой на разгром врага» [858]. Этот панегирик Сталина пользовался необыкновенной популярностью в массах и повторялся на разные лады во всех уголках страны вплоть до смерти диктатора в 1953 году. Имеются отдельные свидетельства того, что многие русские понимали руссоцентристский характер сталинского высказывания, знаменовавшего радикальный отход от идеалистических коммунистических воззрений, однако недовольство в связи с этим ощущали в основном лишь нерусские народности [859].
Хотя эти чувства национальной гордости были порождены, в первую очередь, окончившейся войной и мифом о ней, они были связаны и с исторической памятью народа. Это особенно ясно проявлялось, когда речь заходила об отношениях со странами Воеточной Европы, и с Польшей в особенности. После вооруженного конфликта между Советской Россией и Польшей в 1920 году советская пропаганда редко высказывалась об этой стране положительно. Хотя Польша была славянским государством и входила когда-то в состав Российской империи, в рамках советской массовой культуры после 1937 года подчеркивались прежде всего события трехсотлетней давности, когда Польша воевала с Москвой. С этой целью были мобилизованы такие классические произведения, как «Тарас Бульба» и «Иван Сусанин», а также современные, вроде «Богдана Хмельницкого» Корнейчука.
Поскольку отношение советских людей к их западному соседу сформировалось под влиянием образа Ивана Сусанина и воспоминаний о многовековой вражде, подписание в 1945 году союзнического договора с никому не известным временным польским правительством вызвало некоторое замешательство. Начальник цеха московского Завода № 15 Марченко предложил следующее объяснение: «Буржуазное правительство Польши на протяжении веков разжигало рознь между польским и русским народами. Временное польское правительство, включая договор о дружбе с Советским правительством, руководствовалось желаниями польского народа. Этот договор надолго закрепит дружбу русского и польского народов» [860]. Аналогичное мнение высказал сотрудник Театра Ленинского комсомола Фогель, также инстинктивно связавший воедино русское прошлое с советским настоящим:
«Товарищ Сталин говорил о пяти веках вражды с Польшей. Было проклятое слово на Руси: лях. Было ненавистное слово в Польше: москаль. Как враги появлялись поляки на Руси в смутное время и в рядах наполеоновских армий. Русский царизм безжалостно расстреливал население Варшавы, ссылал поляков на просторы Сибири. Но в памяти встает прекрасный пример человеческой и творческой дружбы двух великих славян — Пушкина и Мицкевича. И сейчас, какой гордостью должны наполниться сердца русских, советских людей, когда, опрокидывая хитроумные происки империалистической дипломатии, соединяются в такой естественной, в такой закономерно-исторической братской дружбе две великие славянские демократии, как бы оправдывая прозрение Пушкина в его стихах, обращенных к Мицкевичу» [861].
Мысль о том, что Пушкин предопределил примирение двух стран, представляется своеобразной, поскольку поэту, как известно, случалось высказывать и имперские амбиции, а объяснение гораздо легче найти в провозглашаемой Советским Союзом политике пролетарского интернационализма и дружбы народов. Народный артист РСФСР Озеров, выступая с речью в Большом театре, заявил: «Во второй четверти прошлого столетия великий русский поэт Пушкин в одном из своих стихотворений говорил: "Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос". Прошло сто лет, и вопрос, поставленный Пушкиным, решился. Ныне славянские страны Болгария, Югославия, Чехословакия, Польша вместе с СССР сливаются на путях правды и справедливости, на путях прогресса и демократии в общий, единый, безбрежный и непреодолимый океан, через который переплыть и который одолеть не смогут никакие силы фашистского мракобесия» [862]. В словах Марченко, Фогеля и Озерова чувствуется романтическая вера, что СССР, Польшу и другие страны Восточной Европы объединяет их древнее общеславянское происхождение и что осуществлению мечты этих народов об объединении долго мешала политика, проводившаяся их правительствами. Эти панславянские настроения были отзвуком официальных заявлений, сопровождавших аннексию польской территории в 1939 году и воспроизведенных советской пропагандой в конце 1944– начале 1945 годов, когда Красная Армия шла победным маршем по Восточной Европе [863].
Не стоит, однако, слишком полагаться на советский панславизм. Как показывают приведенные выше примеры, русский народ предпочитал, чтобы его называли (и сам он себя так называл) «старшим братом» в семье славянских народов. Более того, отношение многих русских к их новым союзникам — и особенно к Польше — было двойственным, и вряд ли зачатки чувства славянской общности могли заставить их преодолеть недоверие, внушенное многолетней пропагандой, выступавшей под знаменем Ивана Сусанина. В архиве ленинградского отдела НКВД сохранилось высказывание, приписываемое одному из профессоров филологии и якобы отражавшее реакцию народных масс на обстановку в Восточной Европе: «Я считаю, что мы все же идем на большие уступки в вопросах о Польше и о принципах разрешения вопросов государственного устройства европейских стран. Я не являюсь шовинистом, но вопрос о территории Польши и наших взаимоотношений с соседними странами после тех жертв, которые мы понесли, меня очень волнует, и я невольно поддаюсь чувству протеста против всякой излишней уступчивости» [864]. Иными словами, идея панславизма была, конечно, прекрасной и романтичной, но пересилить веру русского народа в свою исключительность как primus inter pares она не могла. Подобно лозунгу дружбы народов, она была скорее миражом, маскирующим руссоцентризм. Одной из тех, кого коробили эти лицемерные «кривые и пустые слова», щедро изливавшиеся в первые послевоенные годы, была Лидия Чуковская [865].
Более достоверным представляется мнение, что взгляды русских на современную Европу складывались не столько под влиянием идей панславизма, сколько образов, унаследованных от дореволюционного прошлого. То же самое можно сказать и о странах Дальнего Востока. Особенно интересна в этом плане та роль, которую играла Русско-японская война 1904-1905 годов в формировании отношения русских к участию Японии во Второй мировой войне. Весной 1945 года осведомитель НКВД передал этому учреждению записанное им высказывание одного из ленинградских профессоров по поводу слухов о близкой войне с Японией. «Советская Россия, — сказал профессор, — хорошо отплатит Японии за все ее прошлые провокации, нужно потребовать ответственности за ее недружелюбные действия против нас за последнюю четверть века. Русский народ вправе предъявить японцам требование о возврате части Манчжурии, Кореи, КВЖД, Сахалина и возмещения всех убытков». Один из его коллег выступил с не менее пламенным заявлением: «Теперь справедливость восторжествует, и мы напомним Японии Цусиму, Порт-Артур и Манчжурию. Япония навсегда запомнит, что такое современная Россия» [866]. Инженер ленинградского Завода № 209 в апреле 1945 года так сформулировал цели, которые, по его мнению, должен преследовать Советский Союз на Дальнем Востоке: «Нам нужно исправить ошибки царского правительства и вернуть русские владения Порт-Артур, Манчжурию и Сахалин» [867]. Советский Союз предстает в этих высказываниях как законный наследник империи Романовых и наводит на подозрение, не является ли он и копией империи. Вскоре после первого столкновения с японскими войсками 8 августа 1945 года около здания Высших инженерных железнодорожных курсов в Москве был замечен студент Поляков, рассуждавший по этому поводу: «Япония по отношению к Советскому Союзу всегда проявляла агрессивные тенденции. Это было и в период Гражданской войны, было и на озере Хасан, и на Халхин-Голе. В период мировой войны Япония встала на сторону Германии и оказывала ей помощь. Кроме того, мы помним, что еще 40 лет тому назад Япония воспользовалась слабостью царской России и отняла у русского народа жизненно важные районы. Историческая справедливость требует должного возмездия» [868]. Рабочий ленинградского Завода № 756 выразил уверенность в победе: «Эта война должна быть короткая, как, например, была война с Финляндией в 1939 году. Японию мы теперь быстро разобьем и обязательно получим нашу Китайско-восточную железную дорогу, Порт-Артур и Сахалин. Теперь для японцев не 1905 год» [869].
Хотя мотив отмщения за оскорбление сорокалетней давности был достаточно распространен для того, чтобы Сталин включил его в свою речь в сентябре 1945 года [870], отношение русских людей к военным действиям на Дальнем Востоке было связано не только с воспоминаниями о прошлом. Но даже и в тех случаях, когда история не упоминалась, слова «русский» и «советский» оставались синонимами, так что многие высказывания ретроспективно выглядят анахронизмами. Так, после объявления Советским Союзом войны Японии работница московского Завода № 118 Подолева воскликнула: «На Дальнем Востоке находится в армии мой сын, которому я дам письменный приказ, чтобы он стойко боролся, как русский воин» [871]. Когда две недели спустя Япония признала свое поражение, рабочий предприятия «Мосгаз» Петрович вздохнул с облегчением: «Последний враг русского народа, Япония, капитулировала. Опасность нападения на Советский Союз и на все свободолюбивые народы миновала» [872]. Различие между словами «русский» и «советский» стиралось на уровне массового сознания.
Эта речевая особенность постоянно наблюдалась при обсуждении ситуации в послевоенном мире; иногда утверждение руссоцентризма принимало демонстративный и преувеличенный характер. Например, Вс. Вишневский однажды заявил, что «есть единая русская и советская литература» [873]. Аналогичные взгляды высказывал в своих мемуарах К. Симонов [874]. В кино «русский вопрос» тоже был в центре внимания. Велись дебаты по поводу того, является ли первая серия «Ивана Грозного» Эйзенштейна «достаточно русской» и отведено ли в ней подобающее место русскому народу [875]. Такие же споры возникали относительно романа В. Ажаева «Далеко от Москвы» [876].
Подобная озабоченность показывает, что во второй половине 1940-х годов происходила мифологизация не только испытаний и невзгод, перенесенных русским народом в ходе истории, но и самого народа. По сообщению одного из осведомителей, когда в 1946 году какая-то женщина, стоявшая в очереди, пожаловалась на рост цен, ее быстро одернули: «Ничего, русский народ все перенесет!» [877] Примерно в то же время Татьяна Лещенко-Сухомлина в своем дневнике постоянно подчеркивает, что она сама и ее друзья — русские люди [878]. Актер Олег Фрелих также пространно рассуждает в дневнике о своей русской идентичности, о чувствах, которые пробуждает у него слово «родина» и о том, что русская природа «сообщает русской душе ее неповторимую в других национальностях специфику» [879].
М. М. Пришвин, разрабатывая после войны темы, поднятые в его дневниках конца 1930-х годов, также часто упоминает особые черты характера русских людей [880]. Он размышляет о том, что позволило русским одержать победу в Отечественной войне. Просто их «удаль»? Или «коллективный характер ума, противоположный индивидуальному характеру немца»? Или их пасхальные молитвы?» [881] Пришвин с одобрением воспринимает слова Сталина о «первенстве русского народа», произнесенные в панегирике 1945 года, и это заслуживает особого внимания в связи с тем, что отношение Пришвина к партийным руководителям, да и ко всему советскому строю в целом, всегда было неоднозначным [882].
Лещенко-Сухомлину тоже одолевают мысли о русской нации, хотя пишет она об этом не с такой сентиментальностью, как Фрелих и Пришвин. Она задается вопросом, как уживается «страшная», «непонятная» нищета русского народа с его идеализмом и готовностью к самопожертвованию, и приходит к выводу, что всему виной его терпение. В мае 1946 года она вновь возвращается к этой теме в своем дневнике:
«В жизни моей страны много страшного, даже и невероятного. Думаю, что редко люди жили так фантастически, как мы. И все это — прямое следствие русского характера, нашего двойного видения и двойственного ощущения реальности. Как никакая другая народность на земном шаре, мы умеем "жить в облаках". Мы всецело умеем утешить себя мечтой»[883].
Разумеется, многим были чужды и сентиментальность Фрелиха с Пришвиным, и мелодраматизм Лещенко-Сухомлиной. Научный сотрудник Московского института радиологии Ивашшкая с горечью и недоумением восприняла слухи о том, что Советский Союз отправляет после войны продукты питания в оккупированный союзниками Берлин:
«Мы всегда все делаем для Европы и считаемся больше с ними, чем со своими людьми. Сколько раз в истории человечества Россия своей кровью вывозила Европу из беды! Пора бы понять, что этого никто не замечает, никто не ценит и за это к нам лучше не относится. Мы "азиаты", а они "Европа". Так пусть бы наши воспользовались победой и облегчили жизнь своему народу. Ведь мы голодные и оборванные, а кормить будем берлинцев» [884].
Страстная тирада Иваницкой показывает, до какой степени она прониклась мифом об исключительных заслугах России перед Европой не только в последней войне, но и во время татаро-монгольского нашествия и наполеоновского вторжения. Удивительно похоже звучит высказывание некоего инженера ленинградского предприятия «Ленгипрогаз», который, отдав дань восхищения сталинскому панегирику 1945 года, добавил: «Советский Союз понес исключительно большие потери, а в счет репарации получает из западной части Германии сравнительно немного. Англия и Америка несли только военные расходы, но получают несоразмерно много. Мы и сейчас кормим Германию и будем дальше кормить ее. Русский народ терпелив и вынослив, он пережил 300 лет татарского ига, 300 лет гнета Романовых, все пятилетки и тяжести нынешней войны» [885]. Аналогичные отзывы собрали и участники «Гарвардского проекта» в 1950-1951 годы. Многие респонденты характеризовали русский народ как многострадальный и терпеливый [886], особенно в связи с эпическими потрясениями вроде татаро-монгольского ига [887]. Один из них отозвался о стоической борьбе русского народа с монголами, турками и Наполеоном как о подвигах, которые спасли неблагодарную Европу от темноты и опустошения [888]. На вопрос о характерных чертах русских людей подавляющее большинство респондентов назвали честь [889], щедрость (у них «широкая душа») [890] и любовь к труду [891]. В подтверждение богатого творческого потенциала русского народа, его находчивости и изобретательности приводились имена писателей (Пушкин, Лермонтов, Толстой) [892] и ученых (Павлов, Менделеев, Попов) [893], не говоря уже о таких очевидных примерах, как Петр Великий [894]. Некоторые наделяли русских
такими полумифическими качествами, как бесстрашие, скромность и трагическая меланхолия [895]. Лишь очень немногие из опрошенных добавляли к этому списку какие-либо не столь лестные черты [896].
Как можно заключить из этих интервью, опыт войны, старания советской массовой культуры и тост Сталина заставили многих русских в первые послевоенные годы задуматься о своей национальной идентичности. Их взгляды формировались под влиянием как истории, так и официальной пропаганды. Однако самым важным фактором был сдвиг в их сознании, который не бросается в глаза, но становится более явным при сравнении этих суждений с теми, что высказывались в довоенные и военные годы. Если сначала люди выражали чувство национальной гордости, апеллируя к великим именам или событиям прошлого («Жуков, он же второй Суворов»), то в ходе войны акцент постепенно сместился на «национальный характер». Наиболее точно обобщает мысли русских людей по поводу своего национального самосознания, свойственные им в конце 1940-х – начале 1950-х годов, все тот же панегирик Сталина, мифологизирующий «ясный ум, стойкий характер и терпение» русского народа.
Одним из результатов осознания русскими своего национального характера, наделенного перечисленными качествами, было возникавшее у них все чаще желание защитить свою национальность от всяких нападок на нее и попыток принизить ее достоинства. Показателен в этом отношении скандал, разразившийся осенью 1946 года в Якутии, когда местные жители были обвинены в национализме. Сталину лично была направлена жалоба, в которой говорилось, что во время торжественного ужина, данного министром образования Якутской АССР, возник спор в связи с тем, что один из приглашенных якутов подверг сомнению главенствующую роль русского народа в советском обществе. Русские немедленно поднялись на защиту своей нации, отстаивая ее исключительность. Согласно письму, «когда один из русских людей, зашедших к Чемезову, стал протестовать и сослался на Вас, товарищ Сталин, указав, что русский народ выдающаяся нация, то разнузданная орава якутских националистов разразилась похабной бранью и по Вашему адресу» [897]. Хотя не все детали этого пьяного скандала известны, интересно отметить, что русские, опровергая сомнения в статусе русского народа как «первого среди равных», обратились к панегирику Сталина 1945 года и, говоря шире, к русифицированному мифу о войне. Существует много данных, в том числе и результаты опроса, проведенного в рамках «Гарвардского проекта», которые подтверждают, что подобные ссылки на сталинский панегирик были после войны обычным явлением [898]. Иными словами, русская национальная идентичность в первые послевоенные годы проявлялась, во-первых, в осознании своего тысячелетнего наследия и, во-вторых, в претензиях на особый статус, завоеванный в ходе войны.
Не менее интересны в связи с этим — хотя, возможно, и не так сенсационны — отрывки из дневника Лещенко-Сухомлиной, где она говорит о том праведном гневе, который охватил ее при посещении квартиры некоей американки, работающей в посольстве США. Потрясенная контрастом между уровнем жизни американки и собственным полуголодным существованием, Лещенко-Сухомлина была угнетена тем, что не может выразить свой протест вслух:
«Побывав у Элизабет, я чувствую, словно совершила далекое путешествие, словно увидела Таити или Бали. Воистину ее квартира — экзотический остров по своему комфорту, обилию еды: масла, кофе, дивных вин, одежд, пластинок и диковинных книг. Интересно! И как невыразимо грустно, что этого всего надо бояться, надо быть начеку, как бы не заговорили о политике…. Наоборот! Мне так хотелось бы, захлебываясь от гордости и любви, говорить этим сытым американцам, какая великая и чудесная страна СССР, как тяжко досталась нашим людям победа, как бились наши люди, как талантливы, жизнеспособны, выносливы русские люди. О, я бы таким была агитатором! Но страх, гнусный страх сковывает мой русский патриотизм…. Ведь не ребенок же я, не дура же! А я должна бояться, как дура! Почему?!» [899]
Живя в обстановке страха, Лещенко-Сухомлина осмелилась поверить свои чувства оскорбленной гордости и возмущения только дневнику, очень четко выразив свое национальное самосознание С ее точки зрения, русские по своим способностям, доблести и стойкости превосходят все другие народы, которым, якобы, все доставалось легче. Десятилетняя национал-большевистская пропаганда предоставила в распоряжение Лещенко-Сухомлиной набор стереотипных образов и средств выражения чувства национального достоинства и позволила ей отвергнуть привлекательность «чужого» — в данном случае, материального благополучия иностранцев.
К сожалению, стремление русских защитить свое националь ное достоинство в конце 1940-х – начале 1950 годов не всегда ограничивалось победными записями в дневниках, пьяными застольными ссорами и письмами к Сталину. Очень часто оно побуждало их обвинять нерусских в низкопоклонстве перед Западом [900]. Нередки были нападки на евреев в связи с приписываемым им карьеризмом и склонностью к торговле вместо «настоящей» работы на земле или у станка [901]. Партийная пресса называла евреев «безродными космополитами», подразумевая, что они от рождения чужие в русском обществе и неспособны ни на ассимиляцию, ни на подлинный патриотизм [902]. Зародившись в период «ждановщины» под флагом критики «буржуазного» влияния в искусстве, эта «охота на ведьм» быстро переросла к концу 1940-х годов в особое движение, известное как кампания «борьбы с космополитизмом». Началось с того, что пресса стала клеймить позором людей с фамилиями, похожими на еврейские, за то, что они якобы препятствовали развитию отечественного искусства, музыки, театра, отдавая предпочтение импортированным «буржуазным» темам [903]. Кампания набирала обороты и вскоре охватила не только журналистику, литературу и общественные науки, но и сферу производства [904]. В отличии от военного времени, когда официальный антисемитизм имел скрытый характер, данная кампания быстро привела к обострению напряженности в отношениях между народами Советского Союза [905].
В этой накаленной атмосфере опубликованное в прессе в январе 1953 года сообщение о «раскрытии заговора» крупных врачей-евреев, якобы имевшего целью уничтожение всей советской партийной верхушки, явилось искрой, благодаря которой вспыхнула истерия по поводу существования еврейской «пятой колонны» в СССР, Несколько высших офицеров Политуправления вооруженных сил в ответ на это сообщение выступили с тщательно продуманными и на удивление точно нацеленными обвинениями:
«Почти всегда евреи в очень большом числе выступали как враги революции. Кто в России до революции выступал против большевиков? Либер, Дан, Марков, Абрамович, бундовцы и др. Кто стрелял в Ленина? Каплан. Кто организовал заговор против СССР? Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие, среди которых основная масса была евреи (Радек, Якир, Гамарник и т. д.).
После того как Россия спасла евреев от гитлеровского фашизма, кто первый выступил в защиту американского фашизма? Евреи — Сланский и его банда в Чехословакии, евреи в СССР, которые подло убили тт. Щербакова и Жданова, и многие другие люди с еврейскими фамилиями (еврейские писатели, артисты и т. д.). Факты эти говорят о том, что это явление не случайное».
Негодовал и рабочий И. Сабенеев, отправивший в «Известия» письмо с вопросом, почему больницы не увольняют сотрудников-евреев, которые «относятся к нам, русским, с ненавистью». Напомнив, что «еще много евреев находится на руководящих постах» по всей стране, Сабенеев заключил: «Мы, рабочие, считаем, что в критический момент они нас также продадут». Другой рабочий жаловался на такую же ситуацию, якобы создавшуюся на его заводе в г. Прокопьевске: он «находится на территории СССР, а руководят им почти целиком евреи». В этот гневный хор вливается возмущенный голос анонимного автора из Московской области: «Уберите евреев с руководящих мест…. Русский народ — это не такие болванчики, как вы думаете» [906]. Газетные публикации относительно «заговора врачей» побудили группу строительных рабочих из Ленинграда послать в «Комсомольскую правду» письмо с требованием:
«Рабочие ставят вопрос о суровых мерах наказания вредителей. Мы ставим вопрос: убрать всех евреев с работы пищевого блока, торговой сети, со снабженческих работ и направить всех евреев на добычу угля. Необходимо отобрать построенные ими дачи выселить их из больших городов (Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Севастополя, Одессы и ряда других). Довольно им работать за спиной русского рабочего класса. Пусть они работают так, как русские рабочие!» [907]
Со смертью Сталина 5 марта 1953 года эта истерия не утихла, а, напротив, еще больше обострилась. Анонимное письмо, присланное Н. С. Хрущеву через несколько дней после смерти вождя, вскрывает всю глубину межэтнических противоречий, существовавших в советском обществе в то время. Выражая сомнение в том, «что Сталин умер естественной смертью (отголосок сфабрикованного «Дела врачей»), автор требует, чтобы всех евреев уволили с руководящих постов; «народ им не верит, ибо имеет на это все основания». Противопоставляя русских и евреев, он утверждает, что последние – паразиты на шее народа. Разве им нужен коммунизм? Им нужно золото и возможность обыграть глупых по их мнению Иванов» [908].
Все основные центральные газеты продолжали получать письма аналогичного содержания. Их поток усилился в начале апреля после того, как было опубликовано сообщение, что ««заговор врачей» был «уткой», запущенной вероотступниками, затесавшимися в ряды НКВД. Автор одного из анонимных писем, направленных в «Правду», выразил недоверие по поводу этого ошеломлявшего известия: «Вы думаете, что измените наши взгляды на евреев? Нет, не измените. Евреи были в наших глазах паразитами и будут такими. Они вытесняют нас, русских, ив всех культурных учреждений, за тяжелую работу не принимаются, землю не пашут. Вы должны их одернуть, а не выгораживать» [909]. Еще более наглядным примером было другое полуграмотное и довольно невразумительное письмо:
«После сегодняшней передовой «Правды» нужно ожидать массовый арест русских людей, совершенно невинных, под всякой кляузой евреев.
Когда эта нация успокоится и когда не будет русский народ из-за нее страдать? Ежели бы эта нация не была в СССР, то еще [больше] было бы инициативы у русского народа. Почему другие нации нам голову не морочат? Возьмем хотя бы татары — все честно работают и честно защищали родину во время войны.
А эта нация нам голову морочит. Дошли до такой наглости, что уже бомбы стали бросать на головы русских людей.
Прошу учесть и не топить русских людей за евреев. Мы еще годимся» [910].
Это письмо, представляющее собой смесь «бытового» антисемитизма и инсинуации, почерпнутых из газет, интересно для нас тем, что в нем евреи противопоставляются именно русским, а не всему советскому народу. Мнение, что евреи являются проводниками чуждого влияния в обществе, было в конце 1940-х — начале 1950-х годов широко распространено. Ходили слухи, что они хотят подорвать советскую культуру и само государство — два общественных института, наиболее ценных с точки зрения руссоцентризма. Евреи лишь в ограниченной степени выразили себя в русской культуре и, в отличие, скажем, от татар, им не удалось найти своего места в советском обществе. Не будет преувеличением сказать, что, по убеждению многих русских, в тот момент на карту был поставлен не больше не меньше как их статус «первого среди равных» в семье народов СССР.
Исследователи расходятся во мнениях по поводу причин, породивших эту загадочную финальную главу сталинского правления, но некоторые современники полагали, что межэтническое напряжение возникло в результате пронизавшего все общество руссоцентризма. Об этом свидетельствуют несколько писем, присланных в газеты «Правда» и «Труд» весной 1953 года после смерти Сталина и публикации сообщения о том, что «Дело врачей» было сфабриковано. Некий В. Александров, чувствуя себя обманутым, обвиняет средства массовой информации в том, что это они инициировали разгоревшуюся в обществе истерию:
«Все мы свидетели, как "Правда" неоднократно съезжала с классовых позиций и избегала по ленински-сталински пропагандировать идеи пролетарского интернационализма. Вспомним, как безыдейно и вредно проходила кампания борьбы с космополитизмом. Вместо классового разоблачения, классового подхода к осуждению носителей космополитических идей «Правда» задала определенный националистический тон…. 'Правда", может быть, того и не желая, воспитывала чувство национальной вражды…. Ядом шовинизма сейчас сильно отравлены многие люди в нашей стране и дети, что еще горше» [911].
Соглашаясь с заключительными словами Александрова, житель г. Запорожье Канташевский написал в газету «Труд»: «Если до войны некоторые темные личности чувствовали какую-либо ответственность за разжигание агитации национальной ненависти, то после войны темная гидра более смело начала выявлять свое лицо. Последний процесс изменников-профессоров окончательно дал повод распоясаться вовсю некоторым, а теперь на каждом шагу всюду и везде только и слышишь "жиды изменники, жиды шпионы"» [912]. Употребление терминов «национализм» и «шовинизм» показывает, что Александров и Канташевский возлагают вину за антисемитские перегибы позднего сталинизма на чрезмерный руссоцентризм прессы и общества в целом [913]. К тем же выводам пришел автор письма, в котором антикосмополитическая кампания сравнивается с погромной деятельностью дореволюционного Союза русского народа, организованного В. М. Пуришкевичем [914]. Но газеты «Правда» и «Труд» не стали отвечать на эти письма публично, а переслали их вместо этого в ЦК партии. Ирония заключалась в том, что именно партийное руководство в течение пятнадцати предыдущих лет руководило расширением руссоцентристской пропаганды. Неудивительно, что антисемитские страсти продолжали бушевать [915].
Обсуждение индивидуальной и групповой идентичности, которое велось в советском обществе в последнее десятилетие сталинского режима, было насквозь руссоцентристским. Рассмотренные выше данные, взятые из самых разных источников, свидетельствуют о том, что национал-большевистские тенденции заметно преобладали и над левацкой идеей пролетарского интернационализма, и над любыми иными формами выражения лояльности, группировавшимися на государстве, партии или культе личности. Этому способствовали как широкое использование образов и героев русской истории и мифологии в школьном образовании и во всей массовой культуре, так и публичные высказывания партийной номенклатуры. Вошедшее в привычку употребление слов «русский» и «советский» как синонимов означало, что во многих случаях в конце 1940-х — начале 1950 годов люди просто-напросто не могли выразить свои патриотические чувства по отношению к советскому государству иначе, как языком руссоцентризма.
И дело было, разумеется, не в лексических предпочтениях и даже не в элементарной привязанности к родной земле. Приведенные выше примеры показывают, что в первые послевоенные годы многие советские граждане — от школьников до кочегаров — активно размышляли о том, что значит быть членом русского национального сообщества. Настойчивое утверждение русского национального достоинства и русского превосходства было не только неотъемлемой особенностью сталинского советского патриотизма, но и средством выражения особого зарождавшегося в массах национального самосознания [916]. По мнению живших в то время людей, характерными чертами русского народа были героическая стойкость, не имеющие аналогов в иных нациях, изобретательный ум, терпение, жизнеспособность. Такой взгляд говорит об удивительно сильных шовинистических тенденциях, которые, возможно, были естественным следствием непомерного чувства национальной гордости и культурного превосходства. Русские были «избранным народом», ожидавшим наступления своего торжественного часа.
Разумеется, партийные руководители стремились внушить русскому народу, что он «избран» для выполнения марксистко-ленинской задачи строительства коммунизма [917]. Тот факт, что широкие народные массы не могли усвоить эту абстрактную, чересчур сложную для них пропагандистскую идею, не должен заслонять нам более важную истину: к концу войны русские овладели богатым арсеналом национальных мифов и образов, которого у них не было за пятнадцать лет до этого. И в этом смысле послевоенное вызревание массового национального самосознания следует рассматривать как побочный продукт предпринимавшихся сталинизмом в 1937-1953 годы усилий мобилизовать советское общество с помощью национал-большевистской пропаганды.
Глава 15
Пределы руссоцентризма сталинской эпохи: «Ленинградское дело» 1949 года
В период с 1949 по 1953 год второй по величине партийной организации Советского Союза был нанесен сокрушительный удар в ходе так называемого «Ленинградского дела». Несколько тысяч человек пали жертвой этой загадочной грандиозной чистки, в том числе секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский и председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов. Заметную роль в деле сыграл также партийный аппаратчик В. П. Волков, ничем особенным до той поры не отличавшийся.
Во время Великой Отечественной войны Волков был начальником отдела одного из ленинградских райкомов партии; в 1945 году он был послан в Молдавскую ССР. Там он занимал поочередно несколько постов, включая пост секретаря Кишиневского горкома партии, и успел надоесть всем сотрудникам своей привычкой экстатически превозносить своего бывшего начальника, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Кузнецова, который получил к тому времени назначение в секретариат ЦК. Особенно раздражал молдаван постоянный рефрен Волкова «Мы, ленинградцы…» или «У нас в Ленинграде…», а также наставления типа «Надо учиться работать у лучшей части большевиков Ленинграда, у товарища Кузнецова» [918]. Неудивительно, что когда в начале 1949 года Кузнецов полетел со всех своих постов, он потянул за собой и Волкова.
Но полуграмотное анонимное письмо, стоившее Волкову его карьеры, было весьма примечательным. Оно обвиняло Волкова не просто в связях с Кузнецовым и безудержном восхвалении ленинградской парторганизации, но и в том, что он распространял в Кишиневе слухи, будто «идет подготовка к образованию ЦК партии РСФСР с местом расположения в Ленинграде», и что «Кузнецов наиболее выдающийся деятель партии и, видимо, он будет генеральным секретарем этого ЦК» [919]. Это сообщение встревожило московское партийное руководство, хотя с первого взгляда само предположение об образовании Российской коммунистической партии, казалось бы, было в русле официальной пропаганды послевоенного десятилетия, утверждавшей превосходство русской нации над всеми остальными. 5 апреля 1950 года, вскоре после получения этого доноса, секретариат ЦК начал официальное расследование [920].
Скандал вокруг Волкова указывает на то, что слухи о создании Российской коммунистический партии, РКП(б), играли гораздо большую роль в «Ленинградском деле», чем им обычно отводится в литературе, посвященной исследованию этого вопроса. Эта партийная чистка, осуществленная в конце сталинской эпохи, до сих пор остается довольно плохо изученной — отчасти из-за того, что только часть документов по этому делу сохранилась [921]. Тем не менее, данная глава рассматривает «Ленинградское дело» в социокультурном контексте второй половины 1940-х годов, так как оно дает хорошее представление о характере и границах официального руссоцентризма в конце сталинской эпохи.
А. Собчак пишет в своих мемуарах, что слухи об образовании РКП (б) явились одной из наиболее вероятных причин возникновения «Ленинградского дела». Эта версия «имела широкое хождение в Ленинграде в 1950-х годах…. Я сам неоднократно слышал ее от самых разных людей (от университетских профессоров и партийных работников до соседа по коммунальной квартире, водопроводчика)», — добавляет он [922]. Тесную связь «Ленинградского дела» с проектом создания РКП (б) подтверждает та скорость, с которой ЦК завел дело на незадачливого Волкова. В Кишинев был послан специальный уполномоченный, который спустя месяц доложил, что слухи о РКП(б) действительно циркулируют среди русских членов молдавского партийного руководства. Хотя заместители Волкова П. В. Воронин и С. А. Субботин не признавались, что слышали, как тот высказывался на эту тему [923], сам Волков не оспаривал этого факта. Но при этом он утверждал, что начал распространять эти слухи его предшественник по фамилии Слепов [924]. Волков писал в свою защиту:
«Автор анонимного письма утверждает, что я в неофициальной обстановке в кругу работников горкома партии вел смакующие разговоры по вопросу о том, что скоро будет создан ЦК Российской коммунистической партии, что секретарем ЦК будет Кузнецов, а Ленинград будет центром Российской Федерации.
Это обвинение — клеветническое и ложное, рассчитанное на то, чтобы скомпрометировать меня как члена партии, как советского гражданина. Дело было совсем иначе. Как мне помнится, тов. Слепов, когда был еще секретарем горкома, приехав из Москвы, рассказывал в кругу некоторых работников горкома, что он слыхал, что будет создана столица Российской Федерации с центром в Свердловске или Новосибирске и что будет, возможно, создано ЦК РКП (б). Я сказал, что такую болтовню и разговоры я тоже слыхал еще в 1944 году в Ленинграде, и о Ленинграде [как будущей столице] мне рассказывал бывш. секретарь Приморского райкома партии г. Ленинграда Харитонов. Как видно, в разговоре я говорил об этом, как о болтовне, которую теперь, как очевидно, распространяли Кузнецов и его приближенные. Но я категорически отрицаю, будто я говорил, что секретарем ЦК будет Кузнецов, что я его расхваливал и прочее. Это ложь и клевета, и потом, откуда я мог знать и для чего это мне нужно, мне — честному коммунисту? Я работал в Ленинграде зав. отделом партии, пережил там всю блокаду, голодал, заболел двухсторонним туберкулезом, для чего мне вся эта болтовня? Пусть пробавляются этими разговорами клеветники и антипартийные люди» [925].
В своем заключительном отчете уполномоченный ЦК сообщал, что не смог опровергнуть утверждения Волкова: «Никто также не подтвердил, что Волков распространял слухи насчет образования ЦК партии в Российской Федерации во главе с Кузнецовым с центром в гор. Ленинграде» [926]. Хотя благодаря этому отчету обвинение с Волкова было снято, его реабилитация была запоздалой: весной того же года пленум Кишиневского горкома партии освободил Волкова от занимаемой должности, и он был вынужден удалиться в санаторий «для лечения» [927].
Естественно, Волков был далеко не единственной жертвой чистки, проведенной в связи с «Ленинградским делом» в 1949-1953 годы. Эта кампания поглотила многих членов партии, связанных с Кузнецовым, и не только в Ленинграде, но и в таких, казалось бы, далеких от него центрах, как Псков и Горький [928]. Согласно одному из недавних сообщений, поднятое ею волнение докатилось даже до берегов Черного моря:
«Другого обвиняемого — бывшего председателя Ленинградского облисполкома, назначенного первым секретарем Крымского обкома ВКП (б), Н. В. Соловьева, объявили "махровым великодержавным шовинистом" за предложение создать Бюро ЦК по РСФСР, образовать Компартию РСФСР» [929].
Несмотря на столь серьезное обвинение, в последнее время большинство исследователей — не считая нескольких русских националистов [930] — рассматривают «Ленинградское дело» всего лишь как один из эпизодов послевоенной борьбы между сталинскими приближенными — в данном случае, между А. А. Ждановым и его противниками в лице Г. М. Маленкова и Л. П. Берии [931]. Согласно наиболее распространенной версии, Жданов после снятия блокады Ленинграда в середине 1944 года вернулся в Москву, где его ожидала работа, связанная с культурной и международной политикой. Хотя Маленков и Берия к тому моменту уже занимали прочное положение — первый в государственном аппарате, второй в службе безопасности, — в пользу Жданова сыграл тот факт, что его соперники оказались замешанными в скандалах, разразившихся сразу после войны в военно-промышленном комплексе. Берия в декабре 1945 года был снят с поста министра Госбезопасности, позиция Маленкова к январю 1946 года была также очень уязвимой. Воспользовавшись этим, Жданов в марте 1946 года перевел в секретариат ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецова, своего давнего заместителя в ленинградской парторганизации. К апрелю Жданов взял в свои руки Агитпроп и всю идеологическую работу, а Кузнецов занял место Маленкова и стал руководить кадровой политикой в партии. Хотя Маленков получил новую должность в Оргбюро, скандал в связи с так называемым «Делом авиаторов» настолько скомпрометировал его, что в мае он был выведен из состава секретариата ЦК [932].
После того как Маленков утратил свое влияние в партии, Жданов стал фактически единовластно распоряжаться секретариатом и провел в высшие эшелоны партийного руководства своих бывших помощников из ленинградской и горьковской парторганизаций — в том числе М. И. Родионова (получившего должность председателя Совета Министров РСФСР) и Н. А. Вознесенского (ставшего председателем Госплана СССР и одновременно заместителем председателя Совета Министров СССР). Кузнецов, в чьих руках была вся кадровая политика, укрепил позиции этой группы, назначив своих людей на крупные посты не только в центре, но и в регионах. Победа ленинградской группировки Жданова стала практически окончательной, когда Кузнецов прибрал к рукам давнюю вотчину Берии, органы госбезопасности. А. И. Микоян пишет в своих мемуарах, что в эти годы Сталин иногда называл Кузнецова и Вознесенского своими преемниками в партийной и государственной структурах, соответственно [933].
Принято считать, что в результате этого переворота положение Маленкова и Берии настолько пошатнулось, что они решили объединить силы для борьбы со Ждановым. Их стратегия заключалась втом, чтобы подорвать авторитет Жданова и всей ленинградской группировки в глазах Сталина, играя на совершенных ими ошибках. К середине 1948 года репутация Жданова оказалась довольно сильно подмоченной из-за допущенных по его недосмотру неподобающих публикаций в журналах «Ленинград» и «Звезда», непредусмотрительных нападок его сына, Ю. А. Жданова, на Лысенко и дипломатического фиаско в Югославии [934]. Не в силах противостоять массированной атаке, Жданов был вынужден взять в июле 1948 года двухмесячный отпуск для поправки здоровья — как раз в тот момент, когда Маленков был возвращен в секретариат ЦК. Неожиданная смерть Жданова осенью 1948 года подставила его сторонников под удар, и их падение стало вопросом времени. В результате ряда скандальных разоблачений пострадали Кузнецов, Вознесенский, Родионов и их единомышленники как в ленинградской партийной организации (П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин и др.), так и по всей стране (Н. В. Соловьев, В. П. Волков и др.). Предлогом для решающего наступления стали нарушения, якобы допущенные в Ленинграде в конце 1948 — начале 1949 годов во время партийных выборов и в организации оптовой торговой ярмарки. К1953 году тысячи ленинградских коммунистов и их близких были сняты с работы, арестованы или высланы из города. Всякая активность некогда могущественной партийной организации была подорвана на корню, и Маленкову с Берией не осталось противовеса в узком кругу приближенных генерального секретаря [935].
Но объяснять «Ленинградское дело» лишь продолжающейся борьбой различных кремлевских группировок, которая велась ожесточенно и непрерывно в течение многих лет, значит не учитывать идеологической подоплеки этой чистки, и в особенности выдвигавшихся против ленинградцев яростных обвинений в «русском национализме» и групповщине в связи с предполагаемым образованием РКП (б) [936]. Ведь русский национализм, как соглашается большинство исследователей эпохи развитого сталинизма, был неотделимой частью советской идеологии в 1940-е и в начале 1950 годов [937]. Если допустить, что все дело было лишь в уликах, сфабрикованных Маленковым и Берией с целью одержать верх над соперниками, то почему оно не свелось к обвинению их в коррупции во время войны, семейственности, вредительстве, контактах с иностранной разведкой — как это было при скандалах, сотрясавших после войны авиационную промышленность и командование вооруженных сил? [938] Зачем надо было выдвигать против ленинградской парторганизации столь необычное обвинение, в то время как руссоцентризм был нормативной составляющей сталинской культурной политики? [939] Не подвергая сомнению утверждение, что Маленков и Берия спровоцировали в своих интересах процесс в северной столице, и учитывая, что «русский национализм» был далеко не единственным грехом, в котором обвинялись ленинградские коммунисты, все же следует признать, что особенности этого дела требуют более пристального его изучения. Случай с Волковым и подобные ему проливают свет не только на «Ленинградское дело», но и на всю политику партии в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Обстоятельства «Ленинградского дела» позволяют сделать вывод, что идеологическая линия, проводившаяся партией, хотя и была в высшей степени руссоцентристской, не была националистической, как утверждают многие. Несомненно, партийное руководство в этот период оперировало определенными избранными элементами русского национального прошлого — героями, мифами, образами, — но делало это с целью повысить авторитет и легитимность советской власти, а также усилить мобилизационный потенциал своей пропаганды. Оно не вело политику в интересах одной лишь русской нации, не стремилось усилить ее культурную автономию и самоуправление — то есть, не преследовало целей, соответствующих классическим критериям национализма [940]. Вряд ли можно найти какие-либо иные факты, которые так наглядно демонстрировали бы пределы, установленные Сталиным и его приближенными для руссоцентризма, как идеологическая схватка в связи с «Ленинградским делом».
Знаменитый сталинский тост в честь русского народа, «наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза», произнесенный в 1945 году, дал понять гражданам СССР, что партийная линия в послевоенные годы будет руссоцентристской. Дополненная «мифом о войне», руссоцентристская пропаганда играла исключительно важную роль во всей массовой культуре после войны, превосходя по своей значимости все, кроме культа личности вождя. В 1947-м году, к примеру, праздновались не только 30-я годовщина Октябрьской революции, но и 110-я годовщина со дня смерти Пушкина, а также 800-летие Москвы [941]. Имена великих русских людей прошлых веков — политических деятелей, военачальников, выдающихся представителей науки и искусства — не сходили со страниц книг и журналов, со сцены и киноэкрана. Эта руссоцентристская пропаганда, сочетавшаяся с противодействием развитию национального самосознания в других республиках СССР, была исключительной по своим масштабам и напору.
Тот факт, что вся массовая культура в СССР в последнее десятилетие сталинского режима находилась под знаком утверждения русского национального величия, неоспорим, однако остается малоизученным вопрос о том, как это влияло на конкретные решения, принимавшиеся партийным руководством. Поскольку исследования, опубликованные по «Ленинградскому делу», рассматривали в основном политические махинации Маленкова и Берии, достаточного внимания не было уделено ни общей ситуации во второй половине 1940-х годов, ни политическим биографиям участников этого противостояния — в первую очередь, Жданова, Кузнецова и Родионова, а также П. С. Попкова, преемника Кузнецова на посту 1-го первого секретаря ленинградской партийной органюации. Совершенно не изучен вопрос о том, какую роль играли руссо-центристские мотивы в деятельности Жданова и его сторонников, В обязанности Кузнецова после его включения в состав секретариата ЦК в 1946 году входило руководство региональными партийными организациями РСФСР [942]. Задача была не из легких и, похоже, доставляла много хлопот не только Кузнецову [943], но и Жданову. К разрешению этих проблем привлекли даже Хрущева, когда он после войны возвратился из Киева в Москву. Позже он вспоминал:
«Когда я приехал с Украины и зашел к Жданову, тов. Жданов мне начал высказывать свои соображения: "Вот видите, все республики имеют партийные органы, имеют ЦК, они обсуждают, решают вопросы, ставят вопросы перед ЦК союзным и перед этим Советом Министров СССР. Одним словом, смелее решают, они созывают совещания по внутриреспубликанским вопросам, обсуждают эти вопросы, ну, и мобилизуют людей. Как-то, значит, жизнь бьет ключом, так сказать, нормально, значит, и все, а это способствует лучшему развитию экономики и культуры и партийной работы. Российская Федерация не имеет этого, она не имеет выхода, так говорят, к своим областям — каждая область варится в собственном соку. Чтобы собираться на какое-то совещание Российской Федерации, об этом не может быть и речи. Да у них и органа нет такого, который собрал бы такое совещание, на котором можно было бы эти вопросы обсуждать"».
Хрущев согласился со Ждановым: «Да, это верно — в неравные условия поставлена Российская Федерация, и интересы Российской Федерации страдают от этого» [944].
Жданов, ободренный реакцией Хрущева, продолжал размышлять о том, как бы излечить административный недуг Российской Федерации. Это, по его мнению, могло бы сделать специальное бюро ЦК партии, которое занималось бы вопросами РСФСР. Жданов был уверен, что эта идея, ввиду ее практической пользы, найдет поддержку у партийной верхушки, — тем более, что прецедент создания такого бюро уже был. Как пишет Хрущев,
«До войны еще (не помню, в какие годы) было создано Бюро Российской Федерации. Возглавлял это бюро, по-моему, Андрей Андреевич Андреев. Они занимались вопросами Российской Федерации, так сказать, заменяя ЦК комитет [sic, бюро] по Российской Федерации [945]. Потом, не знаю, при каких обстоятельствах, этот комитет [sic, бюро] перестало существовать, было ликвидировано, и опять продолжалось такое положение, что Российская Федерация не имела партийного органа, который бы разбирал текущие вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства и прочего. Все это было роздано по союзным наркоматам, и только некоторые вопросы третьестепенной важности рассматривались Советом Министров Российской Федерации. Таким образом, Российская Федерация значительно хуже работала, чем другие республики».
По словам Хрущева, он с энтузиазмом поддержал идею Жданова о создании бюро, но предупредил его о нецелесообразности попыток расширить его до какой-либо более сложной структуры, вроде самостоятельной российской коммунистической партии:
«ЦК не было никогда в Российской Федерации… — и, может быть, это и правильно, что этого не было. Если [бы] был центральный орган такой выборный, как другие республики имеют, могло [бы] возникнуть противопоставление…. Российская Федерация слишком мощная по количеству населения, по промышленности, сельскому хозяйству. Потом, имелись бы два центральных комитета: один был бы межреспубликанский, а другой — ЦК Российской Федерации. Конечно, Ленин на это не пошел. Видимо, у Ленина были какие-то соображения, чтобы не создать двоецентрие и чтобы не столкнуть эти центры, чтобы была, так сказать, монолитность политического и партийного руководства».
"Да, — ответил Жданов, — значит, видимо, бюро. Ну, бюро ерунда — потом, бюро уже было, поэтому это уже не ново, и вернуться опять к бюро, и я считаю, это самое лучшее сейчас. Я об этом думаю"» [946].
Жданов был, по-видимому, удовлетворен результатами беседы и принялся обдумывать детали своего плана. Спустя два года, летом 1948-го, он вновь поднял этот вопрос в беседе с Хрущевым по телефону, добавив, что возникли новые обстоятельства, которые он хотел бы обсудить с Хрущевым при личной встрече [947]. Хотя смерть Жданова осенью этого года помешала ему объяснить, что он имел в виду, о многом можно догадаться по высказываниям его старых соратников. В течение всей второй половины 1940-х годов Кузнецов, Родионов и Попков, по всей вероятности, колебались между идеей создания бюро ЦК ВКП (б) по Российской Федерации и образованием самостоятельной Российской коммунистической партии — то есть, тем самым, против чего предостерегал Хрущев. Предполагалось, что бюро или партия будут подчиняться ЦК ВКП (б) и выполнять примерно ту же роль, что и руководящие партийные органы в Украине, Армении и других республиках. Они должны были взять на себя контроль за всей деятельностью в РСФСР с целью улучшить состояние дел в республике, снять бюрократические препоны и освободить ЦК от множества рутинных административных обязанностей [948].
Помимо административной реформы и усовершенствования работы на союзном уровне, новые органы власти должны были, по-видимому, отстаивать интересы РСФСР, устранить дисбаланс в системе управления, возникший еще в начале 1920-х годов. Как пишет А. Собчак в своих мемуарах, «в эти годы в головах ленинградских руководителей, которые были бесспорными лидерами в рамках Российской Федерации (многие из них были выдвинуты на работу в Совнарком РСФСР), возникла мысль о том, что было бы справедливо уравнять в правах РСФСР с другими союзными республиками, каждая из которых имеет свою столицу, свою компартию, свой ЦК компартии и т. д. Тогда все в России вспоминали знаменитый тост Сталина за великий русский народ, внесший решающий вклад в победу над фашизмом. А раз великий, то, значит, имеет право быть хотя бы "на равных" с другими, и в качестве первого шага мечтали о переносе столицы России из Москвы в Ленинград, конечно же, с сохранением Москвы в качестве столицы СССР» [949].
В атмосфере руссоцентризма, царившей во второй половине 1940-х годов, эти замыслы, казалось, вполне согласовывались с политикой партии [950]. Будучи уверены в этом, Кузнецов, Вознесенский и Родионов с энтузиазмом подхватили лозунги о великой исторической роли русского народа, которые не смолкали в советской массовой культуре [951]. Попков был одним из самых горячих приверженцев идеи РКП (б) [952]. Сподвижники Жданова решили добиваться официального признания вынашиваемых ими планов. В сентябре 1947 года Родионов письменно обратился к Сталину с предложением о создании бюро ЦК ВКП(б) по вопросам РСФСР [953]. Согласно бывшим членам Ленинградского исполкома партии, Родионов и Кузнецов в беседах со Сталиным высказывали также и идею создания российской компартии. Сталин воздержался от комментариев по поводу этих предложений, хотя и не отверг их [954].
Но если Сталин воздержался от высказываний по этому вопросу, пока Жданов еще был жив, он и вовсе потерял терпение по отношению к ленинградцам после смерти их шефа в августе 1948 года. Подстрекаемый закулисными интригами Маленкова, он решил поставить их на место [955]. Удобный случай представился в начале 1949 года, когда слухи о нарушениях избирательной процедуры и «несанкционированной» торговой ярмарке в Ленинграде убедили Сталина, что ленинградцы становятся не только самонадеянными, но и дерзкими [956]. На заседании Политбюро в феврале 1949 года он обвинил ленинградскую группу чуть ли не в мятеже и разнес идею создания РКП (б) в пух и прах [957]. Стенографическая запись заседания либо не велась, либо до сих пор засекречена, однако, по словам одного из присутствовавших на заседании, Сталин реагировал на предложение создать РКП (б) резко отрицательно. Очевидно, он боялся, что российская компартия, в отличие от партий других союзных республик, будет представлять угрозу центральному партийному руководству. Через несколько дней Политбюро приняло резолюцию, которая смещала ленинградских коммунистов с их постов и обязывала ленинградскую парторганизацию навести порядок в своих рядах [958].
Примерно через неделю после этого бурного заседания Политбюро Маленков выехал в Ленинград, чтобы присутствовать на пленуме местной парторганизации, созванном для обсуждения произошедшего. Открыв пленум, Маленков тут же обвинил местных партийных руководителей, и прежде всего Попкова, в стремлении «внушить» членам партии мысль о необходимости создания РКП (б) и переноса столицы РСФСР в Ленинград. Стенограмма речи Маленкова, по-видимому, не сохранилась, но по свидетельству одного из очевидцев, самый большой грех ленинградских руководителей он усматривал в том, что «этим самым они хотели как бы противопоставить ленинградскую партийную организацию ЦК партии» [959]. Опальный Попков защищался, как мог, но вынужден был согласиться с подобным осуждением своих планов по созданию РКП (б):
«Вчера меня на бюро товарищ Николаев [960] спрашивал: в чем выразилось мое выступление против ЦК… Я неоднократно говорил — причем, говорил здесь, в Ленинграде, в присутствии Бадаева [961], Капустина [962], Николаев слышал и другие; говорил это в приемной, когда был в ЦК (но не со Ждановым, а в приемной Жданова), говорил и в приемной Кузнецова… о РКП. Обсуждая этот вопрос, я сказал такую шутку: "Как только РКП создадут — легче будет ЦК ВКП(б): ЦК ВКП(б) руководить будет не каждым обкомом, а уже через ЦК РКП". С другой стороны, я заявил, что, когда создадут ЦК РКП, тогда у русского народа будут партийные защитники. Это уже антипартийное заявление. Что же выходит? Попков хочет защитить русский народ, а ЦК ВКП(б), товарищ Сталин не защищают его? Это явно антипартийная линия. Мне товарищ Сталин на Политбюро показал, куда это ведет и что это значит. Но ведь когда я говорил это [раньше] в присутствии ответственных товарищей, меня никто не поправил по этому вопросу» [963].
Несмотря на некоторую невнятность объяснений Попкова, они все же позволяют понять многое — в частности, что идея РКП (б) была во второй половине 1940-х годов постоянной темой разговоров в кругу руководителей ленинградской парторганизации, которые считали ее вполне безобидной попыткой улучшить работоспособность партийного аппарата. Но что еще более важно, слова Попкова показывают, что Сталин отверг предложение о создании РКП (б) по той причине, что опасался, как бы она не привела к российскому самоуправлению. Он высмеял слова Попкова о том, что русским людям нужны «партийные защитники». «Товарищ Сталин на Политбюро показал, куда это ведет, и что это значит», — сказал Попков на пленуме и передал своими словами, куда именно, по мнению Сталина, это ведет: «Попков хочет защитить русский народ, а ЦК ВКП(б), товарищ Сталин не защищают его?» Генеральный секретарь считал, что подобные инициативы преследуют узко российские интересы и попахивают национализмом [964].
Но почему все-таки Сталин воспринял идею РКП(б) с таким подозрением и враждебностью во второй половине 1940-х годов, когда вся атмосфера в стране была насыщена руссоцентризмом? Ответ выглядит на первый взгляд неожиданно: постоянно прославляя русских людей, Сталин не был русским националистом и всегда выступал против любых попыток России добиться самоуправления. Русский народ нужен был ему как «руководящая» сила советского многонационального общества, его становой хребет. К тому же, с его точки зрения, русские были «наиболее революционной» частью общества; во второй половине 1930-х годов русский народ уже считался «первым среди равных», — его история, имеющая всемирно-историческое значение, его язык и культура делали его «старшим братом» в советской семье народов. Как высказался после войны в газете «Правда» А. Н. Поскребышев, «великий русский народ» выполнял исключительно важную роль в СССР, являясь «той цементирующей силой, которая скрепляет дружбу народов» [965].
Хотя столь откровенный руссоцентризм был принят правящей верхушкой на вооружение лишь во второй половине 1930-х годов, партия всегда рассматривала русский народ как основополагающий компонент всего советского общества. Это видно хотя бы из организационной структуры СССР, в которой не было предусмотрено русской компартии и русских органов самоуправления, дабы они не приобрели слишком большого влияния и не стали отстаивать собственные интересы, противоречащие планам всесоюзного руководства. Именно по этой причине благие намерения Попкова укрепить суверенитет РСФСР привели Сталина в такую ярость — они противоречили всей двадцатипятилетней практике управления страной.
Но подозрения Сталина и его гнев были вызваны не только этим. Среди обвинений, выдвинутых против Кузнецова, Попкова и их сторонников, два — предательство и заговор против ЦК — свидетельствовали о том, что планы ленинградских коммунистов представляли угрозу для советской системы как с административной, так и с идеологической точки зрения. К концу 1940 годов сталинский режим уже целое десятилетие использовал руссоцентристскую пропаганду для завоевания поддержки народных масс. Мобилизационная стратегия, принятая в СССР с первых лет ее существования и основанная на интернационалистских идеалах, оказалась к концу 1930-х годов недостаточной из-за низкого уровня образования широких масс, не позволяющего им постичь абстрактные теории марксизма-ленинизма, и была дополнена более прагматичной идеологической политикой, сфокусированной на русской истории, ее героях, мифах и иконографии. Подобный национал-большевизм, насквозь популистский, способствовал утверждению легитимности ВКП (б) и советского государственного устройства, намеренно стирая грань между понятиями «русский» и «советский» и интегрируя «великодушный» русский народ с его тысячелетней историей.
Вина ленинградцев заключалась в том, что их на первый взгляд невинное предложение об образовании русской компартии и органов самоуправления создавало угрозу для всей возведенной с таким трудом национал-большевистской идеологической конструкции. В частности, если бы российская компартия объявила себя «защитницей русского народа» и законной наследницей русского прошлого, ВКП (б) лишилась бы этого статуса, который она культивировала с конца 1930-х годов. Если бы РКП (б) перехватила у всесоюзной партии руссоцентристские лозунги и пропаганду, то последней для поддержания своего идеологического авторитета пришлось бы вернуться к сомнительной мобилизационной тактике, опирающейся на марксизм-ленинизм. Одним словом, РКП (б) была бы способна подорвать силу, авторитет и мобилизационный потенциал кремлевской власти, как никакая другая республиканская партия. Именно этот призрак российской административной и идеологической самостоятельности, который Хрущев назвал в разговоре «русским национализмом», побудил Сталина представить инициативу ленинградских коммунистов как предательство.
При всем том, невольно напрашивается вопрос, каким образом Ленинградская партийная организация умудрилась вырыть самой себе такую глубокую яму. Большинство аналитиков придерживаются мнения, что дело против Кузнецова, Попкова и их сподвижников сфабриковали Маленков и Берия [966], что у ленинградцев не было намерения создавать РКП (б) и их заставили оговорить себя после ареста осенью 1949 года [967]. Противоположную точку зрения высказывают некоторые русские националисты. Они утверждают, что жертвы «Ленинградского дела» действительно были руководителями самозванной «Русской партии», которая стремилась русифицировать СССР, заменив некоторых кремлевских руководителей еврейского и кавказского происхождения на своих ставленников [968].
Более вероятно, однако, что Кузнецов, Попков и их сторонники ошибочно поняли заявления партийного руководства о главенствующей роли русского народа в Союзе как намек на возможность самоуправления РСФСР. Эта ошибка — вполне простительная в руссоцентристской атмосфере послевоенного сталинизма — была на руку Маленкову и Берии, предоставив им материал, который можно было использовать для обвинения ленинградских партийцев в административном и идеологическом бунте. Уничтожив Кузнецова, Попкова, Родионова и других, Маленков и Берия значительно укрепили свои позиции. Вместе с тем, эти репрессии дают основание сделать вывод, что руссоцентризм партийного руководства страны играл прежде всего служебную, мобилизационную роль. Какой бы популярностью у русского народа ни пользовалась эта пропаганда в конце 1940-х годов, «Ленинградское дело» подтверждает, что даже на заключительной стадии сталинского правления руссоцентризм был призван в первую очередь утвердить авторитет ВКП(б) и укрепить советское государство, а не потворствовать «националистическим» устремлениям российских коммунистов.
В 1990 годы, отвечая на вопрос о причинах долговечности Маленкова в качестве одного из партийных столпов, его сын дал весьма интересное объяснение. Повторяя, по всей вероятности то что он слышал от других в детстве, А. Г. Маленков сказал, что его отец был единственным из приближенных Сталина, кто правильно понимал позицию Генерального секретаря по вопросу о «ведущей роли русского народа в нашем многонациональном обществе» [969]. Возможно, это было пустым хвастовством, однако обстоятельства «Ленинградского дела» подтверждают, что в 1949 году некоторые партаппаратчики действительно преувеличивали намерения Сталина отстаивать интересы Российской Федерации. Рядовые советские граждане впадали в эту ошибку еще в конце 1930-х годов. И в этом смысле «Ленинградское дело» также показывает, что этот популистский руссоцентризм достиг такой степени развития, на которой его уже трудно было отличить от национализма. Эта опасная тенденция захватила даже представителей советской элиты, и КПСС была вынуждена противостоять ей вплоть до распада СССР в 1991 году.
Заключение
Национал-большевизм и русское национальное самосознание
Смерть Сталина 5 марта 1953 года обычно рассматривают как «момент прозрения», после которого советское руководство отказалось от многих крайностей последнего периода диктаторского правления [970]. Но засилье руссоцентризма, характерное для конца 1940-х — начала 1950-х годов, продолжалось. Это видно в контексте многих общественных явлений, например в книгах отзывов, предоставленных публике при открытии двух новых станций московского метрополитена весной 1953 года. В книге на станции «Арбатская» шахтер А. Уткин дал торжественное обещание: «Что от нас требует рабочий класс и колхозники, мы, русский народ, все сделаем для своей Родины». Другой посетитель, восхитившись новой станцией «Смоленская», написал: «Как гениален и талантлив русский народ, руководимый КПСС!» [971]
Это, конечно, не означает, что официальная линия не претерпела после смерти вождя никаких изменений. Однако они носили скорее косметический характер и выражались в основном в ослаблении культа личности Сталина [972]. Правда, весной 1953 года ходили слухи, что предстоят существенные перемены в национальной политике и отход от официального руссоцентризма. Исследователи связывают эти слухи с попыткой Берии захватить власть во время междуцарствия [973]. Но в результате быстрого устранения Берии в июне 1953 года его планам не удалось созреть окончательно, не говоря уже о том, чтобы привести к сколько-нибудь серьезным изменениям. Напротив, национал-большевизм окреп благодаря другим инициативам в первые месяцы после смерти диктатора. Так, Институту истории Академии наук вменялось усилить работу по традиционным направлениям: «К числу важнейших задач Института истории относится разработка научных проблем отечественной истории, изучение основных этапов и закономерностей исторического развития народов СССР, истории пролетариата и крестьянства СССР, прогрессивной роли России в истории человечества, в истории науки и культуры, в развитии международного революционного движения, ведущей роли русского народа в братской семье народов СССР». Поставленные перед историками цели показывают, до какой степени популистская идея руссоцентристского государства срослась с официальной линией, проводимой советским руководством. Важность того факта, что эта национал-большевистская программа, намеченная еще на XIX съезде партии в 1952 году, была подтверждена в начале постсталинской эпохи, трудно переоценить [974]. Даже такие знатоки классической русской культуры, как историк С. С. Дмитриев, отзывались об этой политике крайне неодобрительно. В начале 1954 года Дмитриев выразил сожаление по поводу того, что в советской культуре и искусстве задает тон «квасной шапкозакидательский патриотизм», не учитывающий уроки 1941-1945 годов. Он назвал его «безудержным, слепым и невежественным националистическим самовосхвалением», что показывает, как далеко зашел режим в своей поддержке руссоцентризма [975].
В общеобразовательных школах ситуация была не намного лучше. Говорилось о необходимости каких-то изменений, но они касались не столько историографии, сколько все того же злополучного вопроса о чрезмерном объеме учебника Шестакова и его трудности для учащихся. Высказывалось даже предложение заменить в начальных классах изучение исторического нарратива в хронологическом порядке серией увлекательных и динамичных исторических притч, которые сохраняли бы патриотический, агитационный пафос школьной программы, но избавили бы учеников от необходимости запоминать большое количество дат, имен и событий. Подобное попурри из «рассказов об истории нашей Родины» вместо вызубривания всех фактов, в течение тысячи лет неуклонно ведущих к образованию советского государства, могло бы разбавить руссоцентристскую атмосферу в школе, если бы программа включала хотя бы небольшое количество мифов и легенд других народов (например, отрывки из армянского эпоса «Давид Сасунский» или киргизского «Манаса»), как это было до середины 1940-х годов [976]. Архивные материалы, однако, свидетельствуют о том, что планируемая реформа предполагала отфильтровать текст Шестакова с получением еще более густого концентрата из руссоцентристских мифов, героев и образов [977]. Но согласия между партийными руководителями по этому вопросу достигнуто не было, и все осталось без изменений до середины 1955-1956 учебного года [978].
После того, как Хрущев на XX съезде партии в 1956 году разоблачил культ личности Сталина, отверг «Краткий курс историй ВКП(б)» и потребовал, чтобы историки исправили искажения в официальной линии, «Краткий курс» Шестакова перестали печатать [979]. Однако дебаты по поводу новой учебной программы касались только вопроса о культе личности Сталина и обходили вопрос о русском народе [980]. Правда, кое-кто из историков, подхватив на-метившуюся на съезде тенденцию к развенчанию культа личности, выступил за пересмотр официальной позиции в отношении Ивана Грозного и некоторых других исторических персонажей с сомнительной репутацией [981]. В последующие годы наблюдалось также возвращение к более материалистическому толкованию истории, но в целом советская историография сохраняла свою национал-большевистскую ориентацию и во второй половине 1950-х годов, и в дальнейшем. И даже накануне распада СССР в 1991 году советские студенты продолжали заниматься историей по учебнику, написанному по известной схеме Шестакова, где, после краткого обзора почти тысячи лет существования России, основное внимание уделялось распространению марксизма, раннему революционному движению, ранним социалистам и истории КПСС.
Важно, однако, отметить, что, помимо нового витка борьбы партии за свой авторитет, в 1950 годы наблюдалось развитие альтернативного самосознания, связанного с принадлежностью к такой воображаемой всесоюзной общности, как «советский народ». Иллюстрацией этой возобновившейся кампании в поддержку «дружбы народов» [982] могут служить строчки из популярнейшей песни В. Харитонова: «Мой адрес не дом и не улица,/Мой адрес Советский Союз», которая, по замечанию одного из комментаторов, свидетельствует о стремлении популяризировать эту новую социальную идентичность [983]. Хотя аналитики, утверждающие, что никогда и не предполагалось заменить понятие национальной идентичности концепцией «советского народа», наверное, правы, это не опровергает данного тезиса [984]. В конце концов, трудно отрицать, что в 1950-е и 1960 годы советские идеологи более активно пропагандировали неэтническое, «всесоюзное» чувство идентичности, чем при Сталине, и строили свою пропаганду с помощью образов, отражавших модернизацию жизни, прогресс, урбанизацию, оптимистический взгляд на будущее. Эта «новая историческая общность людей», провозглашенная на XXIV съезде КПСС в 1971 году, оставалась любимым коньком советских идеологов вплоть до 1991 года [985]. Однако неясно, насколько широко чувство этой новой идентичности овладело массами. Один из исследователей пишет, например, что русским людям, привыкшим при Сталине к лестному руссоцентристскому популизму, концепция «советского народа» должна была казаться абстрактной и малопривлекательной [986].
И в самом деле, непоколебимая вездесущность национал-большевизма в эти годы доказывает, как глубоко запечатлелась в умах сталинская пропаганда конца 1930-х– начала 1950-х годов. Эпилогом к данной книге могло бы послужить одно из недавних исследований, утверждающих, что зарождение современного русского национализма произошло как раз в тот период. Согласно автору исследования, хрущевское неуклюжее обращение с интеллигенцией отпугнуло некоторых из них, заставив отойти на националистические позиции и образовать некое неопределенное движение, которое получило возможность накопить большую силу и влияние при следующем правителе, Л. И. Брежневе. Первая стадия развития этого движения — социальная активность, пробудившаяся в период «оттепели» как реакция на пренебрежение партийного руководства к деревенской культуре, природной среде и историческим памятникам, — достаточно хорошо изучена. То же самое можно сказать в отношении второй стадии, когда возникли более широкие культурные движения «деревенщиков» и приверженцев национальной старины, образовавших Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) [987]. Правда, недавно стало известно, что эти нео-националистические движения пользовались определенной поддержкой государства после прихода в 1964 году Л. И. Брежнева к власти. Н. Митрохин даже показывает, что некая «русская партия» сформировалась в Агитпропе вокруг М. А. Суслова [988].
Данное стремление укрепить легитимность своей власти и ее способность к мобилизации масс удивительно напоминает мотивы, которыми руководствовалась популистская пропаганда советского государства при Сталине. Интересен не только сам факт подражания сталинским методам популяризации марксизма-ленинизма в брежневскую эпоху, но и сходство пропагандистской риторики. Массовая культура, точно так же, как и в 1940-е, изображала русский народ стойким, талантливым и терпеливым, уже тысячу лет ожидающим своего золотого часа. Правда, внимание уделялось уже не только создателям империи, но и простым русским людям, однако они по-прежнему играли второстепенную роль. Отнюдь не случайно, что в брежневскую эпоху такой популярностью пользовалась массовая культура, близкая по своему содержанию и риторике к национал-большевизму 1940-х-1950-х годов. Мировоззрение многих людей сформировалось в годы правления Сталина, и это объединяло их с партийным руководством [989]. И было бы странно, если бы это не нашло отражения в их воображении и вкусе, в особенности, в хвалебных песнях в честь «великого русского народа». Хотя Ю. Н. Андропов в начале 1980 годов попытался свернуть с националистического курса, возрождение этих тенденций после 1991 года, идей, напоминающих о 1940-х и 1950-х годах и изложенных схожим языком, показывает, что и спустя несколько десятилетий после смерти Сталина классические темы национал-большевизма продолжают пользоваться популярностью в российском обществе.
В отличие от царской России и первых лет большевистского правления, когда еще не было четко сформулировано понятие коллективного самосознания, сталинскому режиму в период с начала 1930-х годов до середины 1950-х удалось пробудить в массах ощущение общности и товарищества. Когда в годы Первой пятилетки возникла необходимость мобилизовать население на выполнение народно-хозяйственных задач и укрепление боеготовности на случай войны, вся тематика советской литературы, кино, театра и изобразительного искусства была призвана воспитать у граждан преданность советской власти. Во второй половине 1930-х годов стал очевиден крах данной пропагандистской кампании, имевшей целью внедрить в массовое сознание чувство советского патриотизма с помощью популяризации целого ряда советских героев. Следом за этим фиаско, партийное руководство призвало на помощь популярные мифы и образы русского прошлого, чтобы поддержать мобилизационный потенциал официальной марксистско-ленинской линии. В попытке согласовать свою прямолинейную и последовательную политику с многовековыми традициями сталинский режим с невиданным размахом старался распространить в обществе идеи национал-большевизма, используя все возможные средства культуры и образования. Переиздавались классики русской литературы, ставились старые пьесы и оперы, вновь возводились на пьедестал некогда свергнутые выдающиеся личности прошлого, Крутое изменение курса советской пропаганды широко обсуждалось западными аналитиками, в особенности после того, как Н. С. Тимашев в 1947 году определил его как один из аспектов эпохи «великого отступления» [990]. Настоящая книга показывает, что усиление руссоцентризма — это проявление новой национал-большевистской политики, продолжающей популистскую идеологическую линию 1930-х годов, которая ставила задачу мобилизовать население всеми доступными средствами на выполнение плана индустриализации и на победу в возможной войне [991]. В этом отношении привлекают внимание два момента. Во-первых, развернутая мобилизация русской символики в 1937-1941 годы не являлась закономерным историческим процессом, а была скорее вызвана условиями, создавшимися в результате Большого Террора, и несостоятельностью более «советизированной» пропаганды. Во-вторых, каким бы всеохватным ни был руссоцентризм после 1937 года, его никак нельзя считать официальной поддержкой особого русского государственного или национального строительства, поскольку это требовало бы определенной институциональной, политической и культурной автономии для русской нации, а это никогда не входило в планы партийного руководства.
Таким образом, руссоцентризм второй половины 1930-х годов носил чисто практический и популистский характер — даже в большей степени, чем «коренизация», кооптация и культивация национально-патриотических чувств у нерусского населения в республиках в 1920-е и в начале 1930 годов. Бросается в глаза тот факт, что РСФСР так никогда не получила права на минимально самостоятельное развитие отдельно от СССР, даже на самой вершине кампании вокруг руссоцентризма в конце 1940-х гг. Иначе говоря, руссоцентризм после 1937 года не стремился устранить фундаментальный дисбаланс, заложенный в советском государственном устройстве. Как известно, РСФСР изначально входила в состав советского государства без собственных административных органов, имевшихся в Украине, Закавказье и других союзных республиках. В начале 1920-х годов отказ РСФСР от собственной партийной организации с центральным комитетом, от собственной академии наук и пр. был осознанной стратегией с целью ограничить русское влияние в обществе [992]. Характерно, что этот дисбаланс был сохранен и после 1937 года, несмотря на восхваление русского народа как «первого среди равных».
Это сдерживание самостоятельного государственного строительства в РСФСР находило отражение и в политике партии по отношению к русскому национальному самосознанию. Хотя после 1937 года было воскрешено множество мифов, легенд и героев русского прошлого, они отбирались с большой осторожностью, потому что делалось это в первую очередь для повышения авторитета советского настоящего, а не для пробуждения интереса к русской старине. Централизация самодержавной власти и строительство империи трактовались как предыстория создания советского государства, а такие фигуры, как Иван Грозный и Петр Первый были призваны вызывать в массах подсознательную поддержку единоличного правления Генерального секретаря партии. Проводившаяся в 1930 годы политика ретроспективно оправдывалась многовековой борьбой с различными угрозами существованию централизованного государства, будь то опричнина, «необходимая» для подавления внутренних врагов, или эпические битвы Александра Невского с тевтонскими рыцарями. Советские военачальники, ученые, писатели, художники и композиторы стали наследниками дореволюционных побед на поле боя, в науке и культуре. Даже нежелание Пушкина подчиняться ограничениям литературного канона и его художественный реализм рассматривались как предвосхищение эры социалистического реализма, наступившей после 1932 года. Эта ревизия прошлого, судя по всему, подчинялась определенному закону, согласно которому выборочная реабилитация исторических персонажей, репутаций и достижений зависела от их способности отразить, объяснить и оправдать те или иные аспекты современной советской действительности, не намекая на возможность альтернативных вариантов.
Заигрывание с русской историей проще всего понять в связи со своеобразным отношением Сталина к русскому народу. Вопреки громогласному превозношению его, Сталин отнюдь не был русским националистом и негативно относился к любым призывам к русскому самоопределению. Он рассматривал русских как «руководящий народ», становой хребет многонационального советского общества [993]. Для советских идеологов русский народ служил в буквальном смысле «первым среди равных», «старшим братом» в советской семье народов; они использовали его культуру, историю и демографический перевес над другими в качестве «цементирующей силы» для усиления авторитета и легитимности советского государства. Только этим можно объяснить тот факт, что даже в самом разгаре послевоенного руссоцентризма Сталин так нетерпимо относился ко всем инициативам, хотя бы отдаленно напоминавшим стремление к русскому государственному или национальному строительству.
Национал-большевистская идеология сталинской системы добилась несомненного успеха и вместе с тем придала отчетливый руссоцентристский оттенок пропаганде, которая замышлялась прежде всего как популистская, про-государственная, пан-советская. Поэтому неудивительно, что многие сентиментально-руссоцентристские мотивы официальной советской пропаганды, не только пользовались подлинной популярностью в сталинскую эпоху и в следующие десятилетия, но, пережив крушение СССР, сохраняют большое социальное значение и по сей день [994]. Рост популярности русской культуры и развивающаяся одновременно с этим способность простых русских людей четко выразить свое ощущение причастности к русскому обществу словами, понятными всем от Петрозаводска до Петропавловска Камчатского, свидетельствуют о том, что в сталинскую эпоху у русских сформировалось чувство национальной идентичности. Это подтверждают сотни приведенных в этой книге высказываний русских граждан, в которых проявляется их отношение к пропаганде национал-большевизма, исходящей от самых разных представителей советской элиты — начиная с Шестакова, Александрова и Щербакова и кончая Алексеем Толстым, Эйзенштейном и самим Сталиным. Школьники, рабочие, государственные служащие, писатели, ученые, красноармейцы, из которых многие имели крестьянское происхождение, — все они испытали на себе воздействие развернувшейся после 1937 года официальной пропаганды, которое осуществлялось способами, не применявшимися при предыдущих мобилизационных кампаниях – ни в 1920 годы, ни при старом режиме.
Конечно, находились люди, относившиеся к национал-большевизму критически; многие принимали лишь определенные, наиболее близкие и понятные им стороны этого движения. Но именно это объясняет парадоксальное возникновение русского этнического самосознания в обществе, поставившем себе цель сформировать у граждан чувство идентичности социальной, основанной на классовом сознании и пролетарском интернационализме. И наконец, не остается сомнений, что повсеместное распространение в сталинскую эпоху национал-большевистских образов и символики способствовало тому, что в 1953 году русские гораздо более четко сознавали свою принадлежность к русской нации, чем до 1937 года. Усилия партийного руководства заручиться доверием народных масс с помощью избранных русских мифов, легенд и образов привели к тому, чего сталинские идеологи никак не ожидали, — к развитию у русских национального самосознания, абсолютно независимого от общепризнанных социалистических ценностей. Поэтому формирование чувства национальной идентичности, хотя и связанное с одной из самых мощных пропагандистских кампаний середины XX века, следует скорее рассматривать как незапланированный и даже случайный побочный продукт сталинского заигрывания с мобилизационным потенциалом русского прошлого.
Прослеживая развитие чувства русской национальной идентичности, данное исследование анализирует структуру, распространение и восприятие национал-большевистской пропаганды при сталинском режиме и приходит к заключению, что использование русских национальных образов, героев и мифов в период 1937-1953 годов подготовило почву для латентного руссоцентризма и националистских настроений, открыто проявляющихся сегодня среди русских в российском обществе. Выявив сталинское происхождение многих призывов к национальному объединению, звучащих в современном русском обществе, книга объясняет, почему они находят отклик среди русскоязычного населения в пост-советскую эпоху. Эти призывы, удивительно напоминающие риторику национал-большевизма, пронизывавшего официальную идеологию и культуру при Сталине, по своей сути неразрывно связаны с формированием современного русского национального самосознания в самые тяжелые годы двадцатого столетия.
Благодарности
Впервые эта книга была опубликована в 2002 году в Издательстве Гарвардского университета как 93-й выпуск серии, издаваемой Центром по российским и евразийским исследованиям им. Дэвиса. В период подготовительной работы над книгой и ее написания я получал поддержку от ряда частных фондов, государственных учреждений США и исследовательских организации. Совет по международным исследованиям и обменам (1REX) предоставлял мне краткосрочные и долгосрочные гранты в содействии с Национальным фондом поддержки гуманитарных наук и госдепартаментом США в рамках программы российских, евразийских и восточноевропейских исследований (Статья VIII). Поддержка также была предоставлена Министерствам образования США в рамках программы исследовании по иностранным языкам и территориям (Статья IV), Центром по российским и евразийским исследованиям им. Дэвиса при Гарвардском университете и Фондом Жиль Уайтинг. Дополнительная поддержка была оказана историческим факультетом Гарвардского университета и университетским Комитетом по присуждению ученых степеней в области истории и литературоведения. Русскому изданию книги способствовало издательство «Академический проект» во главе с главным редактором А. Е. Барзахом и генеральным директором Ю. А. Дунаевской, а также Колледж гуманитарных и естественных наук и Отделение международного образования Ричмондского университета.
В ходе работы мною были опубликованы статьи по теме книги в изданиях «Russian Review», «Revolutionary Russia», «Вопросы истории» и «Исторический архив». Я хотел бы выразить благодарность издателям ряда журналов за разрешение перепечатать в главах 2, 3, 5, 6 и 15 выдержки из следующих статей: «Proletarian Internationalism, "Soviet Patriotism , and the Rise of Russocentric Etatism during the Stalinist 1930s» [995] // Left History. 2000. Vol. 6. № 2. P. 80-100; «"The People Need a Tsar": The Emergence of National Bolshevism as Stalinist Ideology» [996] (в соавторстве с A. M. Дубровским //Europe-Asia Studies. 1998. Vol. 50. № 5. P/ 871-890; « “The People’s Poet”: Russocentric Populism During the USSR’s Official 1937 Pushkin Commemoration» [997] // Russian History/ Histoire Russe. 1999. Vol. 26. № 1. P. 65-74; «Soviet Social Mentalite and Russocentrism on the Eve of War. 1936-1941» [998]//Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. 2000. Vol. if to 3. S– 388-406; «Stalin, the Leningrad Affair, and the Limits of Postwar Russocentrism» [999] //Russian Review. 2004. Vol. 63. № 2. P. 241-255. Благодарю также Издательство Оксфордского университета за разрешение процитировать в Главе 7 статью «"… it is important to advance Russian nationalism as the first priority": Debates within the Stalinist Ideological Establishment, l941-1945» [1000]//A State of Nations: Empire and State-Building in the Age of Lenin and Stalin/Ed. by Ronald Grigor Suny and Terry Martin. New York, 2001. P. 275-300. К сожалению, при первой публикации этой работы наборщиками было допущено много ошибок в примечаниях.
Хотя поддержка различных организаций играла решающую роль в подготовке данной книги, ее публикация была бы невозможна без помощи друзей и коллег. П. Блитстейн, С. Дейвис, А. М. Дубровский, Дж. Энтин, Дж. фон Гельдерн, Л. Р. Грэхем, Л. Холмс, Э. Лор, Т. Мартин, М. Перри, К.М.Ф. Платт, Р. Г. Сьюни и С. Йекельчик читали и комментировали рукопись целиком (в англоязычном варианте). В написании отдельных глав мне помогали Г. Алексопулос, Ш. Фитцпатрик, Й. Хелбек, Ф. Хирш, М. Каневская, Э. Л. Кинан. Б. Кис, С. Коткин, Дж. Нейбергер, Ш. Поллок, Дж. Россман, Дж. Хоскинг, Р. Шпорлук, Р. К. Такер и А. Б. Улам, а также члены редакционных коллегий и групп рецензирования вышеуказанных журналов. Многие важные вопросы обсуждались с К. и Дж. Бранденбергер, В. Бровкиным, А. А. Чернобаевым. М. Дейвид-Фоксом, О. Хархординым, Э. Найт, Э.Мелхорн, Р. Пайпсом, О. В. Волобуевым и Л. Г. Заятуевой. Н. Алешина и Л.Высоцкий перевели дополненную рукопись для русского издания; А. Е. Барзах внимательно отредактировал ее. Но самым ценным были творческая поддержка и вдохновенное участие Кати Дианиной, которой эта книга посвящена.
Сокращенные обозначения архивов
Архив РАН — Архив Российской Академии наук
Архив УФСБ-СПбЛО — Архив Управления федеральной службы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ГААО — Государственный архив Архангельской области
ГАИО — Государственный архив Иркутской области
ГАКО — Государственный архив Калужской области
ГАРФ — Государственный архив Российской федерации
МИРМ ОФ — Музей истории и реконструкции Москвы. Отдел фондов
НА ИРИ РАН — Научный архив Института российской истории РАН
ОР ГТГ — Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи
ОРР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАНИ — Российский государственный архив новейшей истории
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГВА — Российский государственный военный архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив ФСБ Российской федерации
ЦАОДМ — Центральный архив общественных движений Москвы
ЦГА УР — Центральный государственный архив Удмуртской республики
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурге
ЦДНА — Центр документации «Народный архив»
ЦМАМ — Центральный муниципальный архив Москвы
ЦХДМО — Центр хранения документов молодежных организаций
ЦХИДК — Центр хранения историко-документальных коллекций
HP— Harvard Project on the Soviet Social System [Гарвардский проект по исследованию советской общественной системы]
690
Jeffrey Brooks. «Thank You, Comrade Stalin»: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton , 1999. P. 198-206; Amir Weiner. The Making of a Dominant Myth: The Second World War and the Construction of Political Identities within the Soviet Polity//Russian Review. 1996. Vol. 55. № 4 P.638-660; Nina Tumarkin. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia . New York , 1994.
(обратно)
691
Timothy Dunmore. Soviet Politics, 1945-53. New York , 1984. P. 130. См. также: P. Г. Пихоя. Советский Союз: История власти, 1945-1991. М., 1998. С. 62; Ward Chris. Stalin's Russia . London , 1993. P. 177; John B. Dunlop. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton , 1984. P. 23-28; Hahn Werner. Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation. Ithaca , 1982. P. 9-13, 19-20 и т.д.; William McCagg. Stalin Embattled, 1943-1948. Detroit , 1978. P. esp. 98-117, 249-254; Alexander Werth. Russia at War, 1941-1945. New York , 1964 P. 941-945. Frederick C. Barghoorn. Soviet Russian Nationalism. New York , 1956. P. 42-43; Harold Swayze. Political Comtrol of Literature in the USSR , 1946-1959. Cambridge , Mass. , 1962. P. 32; Sergius Yakobson. Postwar Historical Research in the Soviet Union //Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1949. № 263. P. 123-133.
(обратно)
692
Г. Александров О некоторых задачах общественных наук в современных условиях // Большевик. 1945. № 14. С. 12-19, особ. 15.
(обратно)
693
Там же. С. 17. Во время войны нередко цитировалось аналогичное высказывания на эту тему Н. Г. Чернышевского (см., например: Великие традиции русского народа // Красная звезда. 1943. 22 мая. С. 1) и других его предшественников, включая Пушкина и Карамзина.
(обратно)
694
Александров. О некоторых задачах… С. –16-17.
(обратно)
695
Задачи журнала «Вопросы истории»//Вопросы истории 1945. № 1. С. 3-5; О перспективном плане в области исторической науки // Исторические записки. 1945. № 3. С. 60-75.
(обратно)
696
И. В. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы (9 февраля 1946 г. //Сочинения. Т. 3 (16). Stanford, 1967. С. 4-7; Мировое значение русской культуры//Литературная газета. 1946. 20 апреля. С. 1.
(обратно)
697
РГАСПИ 17/125/366/210-221, опубл. в: «Литературный фронт»; История политической цензуры, 1932-1946. Сборник документов/Под ред. Д. Бабиченко. М., 1994. С. 162-163.
(обратно)
698
РГАСПИ 17/117/628/10-17, опубл. в: Литературный фронт»: История политической цензуры. С. 191-197; О литературном журнале «Звезда» //Культура и жизнь. 1946. 10 августа. С. 4; Идейно-воспитательная работа среди писателей//Литературная газета. 1946.10 августа. С. 1.
(обратно)
699
О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. //Культура и жизнь. 1946. 20 августа. С. 1. Две речи Жданова, произнесенные 15 и 16 августа перед партийным активом и перед собранием творческой интеллигенции, были опубликованы под одной шапкой: Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»//Культура и жизнь. 1946. 30 сентября. С. 1-3. См.: РГАСПИ 77/1/978/111-118; 77/1/803; 558/11/732/3-46.
(обратно)
700
О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Постановление ЦК ВКП (б) от 26 августа 1946 года//Культура и жизнь. 1946. 30 августа. С. 1. В своих выступлениях 15 и 16 августа Жданов предупредил об опасности однобокой одержимости историческими темами.
(обратно)
701
Сталин, Молотов и Жданов о 2-й серии фильма «Иван Грозный»: Запись Сергея Эйзенштейна и Николая Черкасова//Московские новости. 1988. 7 августа. С. 8-9. Симонов ошибался, говоря, что Сталин запретил вторую серию фильма под тем предлогом, что эта тема якобы несвоевременна, — см.: К. Симонов. Глазами человека моего поколения: размышления о И. В. Сталине. М., 1988. С. 164; гл. 3, прим. 49; гл, 13, прим. 42.
(обратно)
702
Лев Копелев. Хранить вечно. Ann Arbor, 1977. С. 504.
(обратно)
703
См. гл. 7, прим. 67.
>
(обратно)
704
РГАСПИ 17/125/311/26-28.
(обратно)
705
Разгромная рецензия на эту книгу в центральной прессе (см., например М. Морозов. Об «Истории Казахской ССР»//Большевик. 1945. № 6. С. 74-80) вынудила казахских коммунистов принять резолюцию: О подготовке 2-го издания «Истории Казахской ССР»//Большевик Казахстана. 1945. № 6. С. 49-51. См. последующие критические замечания в адрес этого издания: РГАСПИ 17/125/340/78-85; 17/125/311/108-144; Peter Blitstein. Stalin's Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936-1953//Ph. D. Diss., University of California . Berkeley, 1999. P. 63-71.
(обратно)
706
Пленум ЦК КП (б) Армении//Правда. 1947. 26 сентября. С. 2; см. также: РГАСПИ 17/125/570/270-291; 17/117/702/106-123. Разразившийся скандал не утихал и в 1948 году, как видно из публикации: ЦК КП (б) Армении о задачах идеологической работы // Культура и жизнь. 1948. 21 марта. С. 2.
(обратно)
707
РГАСПИ 17/125/254/222-263, особ. 222-224, 261-263.
(обратно)
708
О Якутии см.: РГАСПИ 17/125/507/9-197, 239-253, 300-316; РГАНИ 6/6/767/ 83-86; Blitstein Stalin's Nations. P. 71-89; о Бурятии: В. Шунков. О разработке истории Бурят-Монголии // Вопросы истории. 1949. № 5. С. 87-89. об Узбекистане: РГАСПИ 17/125/507/172.
(обратно)
709
РГАСПИ 17/125/626/83-85; Е. Ю. Зубкова. Феномен местного национализма: «Эстонское дело» 1949-1952 годов в контексте советизации Балтии//Отечественная история. 2001. № 3. С. 89-103.
(обратно)
710
РГАСПИ 17/125/617/224.
(обратно)
711
A. A. Bennigsen. The Crisis of the Turkic National Epics, 1951-1952: Local Nationalism or Internationalism?//Canadian Slavonic Papers. 1975. Vol.17. № 2-3. P. 463-474.
(обратно)
712
О событиях в Татарстане см.: В. Пискарев, Б. Султанбеков. Этот учебник не выдерживает большевистской критики//Эхо веков. 1997. № 1-2. С. 81-110; о Казахстане — За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана // Правда. 1950. 26 декабря. С. 1; РГАНИ 5/18/53/3-14; Blitstein. Stalin's Nations. P. 63-71.
(обратно)
713
Примечательно, что развернувшаяся в конце 1940-х годов борьба с «еврейскими космополитами» велась под флагом общей кампании против нерусского «буржуазного национализма», а не отдельно, как часто пишется в научной литературе.
(обратно)
714
Tillett The Great Friendship. P. 80, 58. Одним из наиболее ярких примеров является Морозов, который в 1942 году публиковал в «Пропагандисте» вместе с В. Слуцкой призывы изучать историю республик. См. гл. 7, прим. 15, 22.
(обратно)
715
Улучшить подбор, расстановку и воспитание кадров (на пленуме ЦК КП (б) Украины)//Правда. 1946. 23 августа. С. 2, См.: История Украины/Под ред. Н. Н. Петровского. Уфа. 1943; Очерк истории украинской литературы. М., 1945.
(обратно)
716
Общегородское собрание писателей Киева //Правда. 1946. 2 сентября. С. 2. См. также: Национальни видносини в Украйни у XX ст. Кiев, 1994. С. 291-296; Культурне будивнитство в Украински РСР, червен 1941-195U: Збирник документна и материалив. Kiev , 1989. С. 253-256; К. Литвин. Об истории украинского народа//Большевик. 1947. № 7. С. 41-50, Serhy Yekelchyk. Celebrating the Soviet Present: The Zhdanovshchina Campaign in Ukranian Literature and the Arts. P. 255-257; Yekelchyk. Stalin's Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto , 2004, P. 53-87; Yaroslav Bilinsky. The Second Soviet Republic : Ukraine after World War II. New Brunswick , 1964. P. 394-395.
(обратно)
717
См. гл. 9, прим. 62.
(обратно)
718
П.Н. Климов Первый выпуск «Истории БССР» // Культура и жизнь. 1946. 30 ноября. С. 2.
(обратно)
719
РГАСПИ 17/125/425/54; Климов. Первый выпуск «Истории БССР». С.2; Первый выпуск «Истории БССР» // Культура и жизнь. 1947. 11 января. С. 4; РГАСПИ 17/117/695/4-5,11, 33-34; Запись от 20 июня 1949 года в: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева //Отечественная история. 1999. № 3. С. 153.
(обратно)
720
Записи от 30 и 31 декабря 1951 года в: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева//Отечественная история. 1999. № 4. С 117. 121
(обратно)
721
Сталин, Молотов и Жданов о 2-й серии фильма Иван Грозный». С. 8-9.
(обратно)
722
См. прим. 184-186.
(обратно)
723
Симонов. Глазами человека моего поколения. С. 129,133.
(обратно)
724
О Нахимове см.: Там же. С. 159; см. также запись от 29 июля 1952 года в: В. Малышев. Пройдет десяток лет, и эти встречи не восстановишь уж в памяти//Источник. 1997. Но 5. С. 138. Там же см. поразительную запись Малышева от 28 марта 1945 года, касающуюся сталинского панславизма (С. 128).
(обратно)
725
См. гл. 7, прим. 69. Даже такие давние поборники интернационализма, как Панкратова, отнеслись к словам Сталина как к программному заявлению, обязывающему их перестроить свою позицию в соответствии с ним. Неудивительно, что Маленков и Берия неоднократно ссылались на это заявление в последующие годы. О фундаментальном значении сталинского панегирика для всей общественной жизни в СССР свидетельствует тот факт, что спустя семь лет после его произнесения Берия все еще упоминал его в своем выступлении на XIX съезде партия. См.: А. М. Панкратова. Великий русский народ. М., 1948. С. 4; Панкратова. Великий русский народ — выдающаяся нация и руководящая сила Советского Союза//Вечерняя Москва. 1947. 11 января. С. 2; Г. М. Маленков. Товарищ Сталин — вождь прогрессивного человечества. М., 1949. С. 16; Л П. Берия Речь на XIX съезде КПСС. М., 1952. С. 21-22; Великий русский народ//Литературная газета. 1950. 24 мая. С. 1. Ссылка Берии на сталинский панегирик вскрывает некоторую странность этнических принципов, которыми руководствовалась советская партийная элита и которые побуждали одного грузина цитировать другого, чтобы утвердить главенствующую роль русского народа.
(обратно)
726
Milovan Djilas. Conversations with Stalin. New York, 1962. P. 62.
(обратно)
727
Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». С. 2-3. См. также прим. 10 выше. Костырченко тоже считает, что Жданов противился чрезмерному заигрыванию некоторых партийных работников с русским прошлым; см.: Г. Костырченко. Маленков против Жданова: Игры сталинских фаворитов//Родина. 2000. № 9. С. 90.
(обратно)
728
О трудностях, с которыми столкнулись попытки разграничить русский дореволюционный и советский патриотизм, см.: Патриотизм советских людей//Литературная газета. 1947. 12 апреля. С. 1; Swayze. Political Control of Literature P. 47.
(обратно)
729
РГАСПИ 17/125/503/43-44.
(обратно)
730
Баргурн воспринимает заявление Жданова несколько наивно; см.: Barghoorn. Soviet Russian Nationalism. P. 155-182, csp. 182; также Dunlop. Faces of Contemporary Russian Nationalism. P. 23-28. Ошибочная точка зрения Тиллетта (Tillettt. The Great Friendship. Chap.5), согласно которой это время знаменут собой разрыв с прежними историографическими практиками, объясняется тем, что он недостаточно глубоко проанализировал ситуацию конца 1930-х годов.
(обратно)
731
При внимательном изучении советской национальной политики конца 1940-х годов в ней вскрывается масса противоречий и непоследовательных действий, которые значительно затрудняли работу административных и партийных работников, ответственных за межнациональные отношения. Но до народных масс власть эти проблемы не доводила, отгородившись от них экраном советской культуры, на котором мельтешили руссоцентричные мифы, герои и образы. См.: Blitstein. Stalin’s Nations.
(обратно)
732
ГАРФ 2306/69/3526/2,13; см. гл. 10. прим. 25.
(обратно)
733
ЦАОДМ 3/82/55/1-2,
(обратно)
734
См.: Начальная школа: Настольная книга для учителя / Под ред. М.А. Мельникова. М., 1950, С 50-53, 164; Преподавание истории в школе – передовой участок идеологического фронта // Преподавание истории в школе. 1950. № 4. С 22.
(обратно)
735
ЦАОДМ 3/82/84/23; ГАРФ 2306770/3381/53.
(обратно)
736
ЦАОДМ 3/82/55/18; М. Волин. О воспитании советского патриотизма и программе по истории для средней школы // Партийная жизнь. 1947. № 5. С 53-54; Наша школа. С 52, 168-172.
(обратно)
737
ЦАОДМ 3/82/55/24; РГАСПИ 17/125/626/184-185.
(обратно)
738
Некоторые учителя продолжали сочетать эти две линии, как они делали это во время войны, вопреки звучавшим в послевоенные годы рекомендациям против этого принципа. Например, на одном из уроков при обсуждении заслуг Александра Невского преподаватель провел параллель между его борьбой с тевтонскими рыцарями и Второй мировой которая была результатом «новых планов германцев по порабощению нашего народа». Цитируя слова Сталина о «великих предках», преподаватель напомнил ученикам об Ордене Александра Невского, одной из главных наград во время воины. См.: РГАСПИ 17/132/142/158
(обратно)
739
РГАСПИ 17/132/192/142-142об. Строка о грозах взята из текста гимна, который объединяет прошлое и настоящее уже в первой строфе: «Союз нерушимый республик свободных/Сплотила навеки великая Русь./Да здравствует созданный волей народов/Единый, могучий Советский Союз!»
(обратно)
740
Стихи М. Исаковского.
(обратно)
741
Стихи В. Гусева. Конспект проведенного Щелоковой урока см в: РГАСПИ 17/132/192/141-142, 155.
(обратно)
742
ЦАОДМ 3/82/55/13-14; Начальная школа. С. 531-532.
(обратно)
743
ЦАОДМ 3/82/97/33.
(обратно)
744
ГАРФ 2306/70/3263/34.
(обратно)
745
А И. Стражев. Проблема сопоставления прошлого с современностью в школьном курсе истории// Преподавание истории в школе. 1948. № 2. С. 25-37.
(обратно)
746
ГАРФ 2306/70/3278/91.
(обратно)
747
ЦАОДМ 3/82/84/30.
(обратно)
748
Об организации научно-просветительской пропаганды//КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4. М., 1971. С 121-123.
(обратно)
749
ЦАОДМ 3/82/84/17-31, особ. 30. Вероятно, подобные замечания были отголоском шумных разногласии, возникших после войны в нескольких научных дисциплинах — см.: Werner Hahn Postwar Soviet Politics: The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation. Ithaca . 1982. P. 70-84; Jeffrey Brooks. «Thank You, Comrade Stalin»: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, 2000. P. 97-100, 212-214.
(обратно)
750
Рассказы о русском первенстве/Под ред. В. Орлова. М., 1950; Вотан. О воспитании советского патриотизма. С. 54-55.
(обратно)
751
ГАРФ 2306/70/3271/25.
(обратно)
752
ЦАОДМ 3/82/47/41; 3/82/84/56; Ф. 3/82/97/141; За высокое качество учебы: Итоги школьного года//Вечерняя Москва. 1947. 9 июля. С. 2. О литературных кружках см.: ЦАОДМ 3/82/55/10.
(обратно)
753
ЦАОДМ 3/82/55/30.
(обратно)
754
Например, в Красноярске содержанием одного из уроков была лекция «Великий русский народ – выдающаяся нация»; см.: ГАРФ 2306/70/3278/91.
(обратно)
755
ЦАОДМ 3/82/84/27.
(обратно)
756
ЦАОДМ 3/82/97/33; 3/82/18/10. См. гл. 11, прим. 4.
(обратно)
757
Начальная школа. С. 52-53.
(обратно)
758
Yuri Slezkine. Arctic Mirror Russian and the Small People of the North. Ithaca, 1994. P. 304.
(обратно)
759
ЦАОДМ 3/82/55/26-27.
(обратно)
760
Эта тенденция развивалась и на уровне изучения региональной истории: «История города Горького неразрывно связана с такими темами, как татаро-монгольское иго, борьба русского народа с польскими захватчиками, революция 1905 года и многими другими». См.: ГАРФ 2306/70/3263/35.
(обратно)
761
30 См. документы общесоюзных органов народного образования за 1945-1947 годы, а также отчеты по Владимирской, Кемеровской, Ленинградской и Московской областям: ГАРФ 2306/69/1311/14; 2306/70/3254/24; 2306/70/3285/151-152; 2306/70/3271/26; 2306/70/3381/38; 2306/70/3383/8; ЦАОДМ 3/82/55/7-12, 19.
(обратно)
762
Учителя начальной школы подчас знали историю лишь в пределах учебника Шестакова. См. сообщения 1945-1947 годов из Владимирской и Московской областей: ГАРФ 2306/70/3254/24; ЦАОДМ 3/82/47/5; 3/82/53/159-160, 180.
(обратно)
763
учебники Шестакова и Панкратовой не раз подвергались критике; см.: ГАРФ 2306/70/3234/11; Н. Яковлев. О школьных учебниках по истории // Культура и жизнь. 1946. 30 ноября. С. 4; РГАСПИ 17/125/557/ 198-199; 17/132/57/12,17-18; ЦАОДМ 3/82/97/89-90. О мертворожденном замысле нового учебника см, РГАСПИ 17/132/57/9, 22-25. О звучавших на всесоюзном уровне, а также в Ленинградской и Московской областях сигналах о плохом обеспечении школ учебниками в 1946-1950 годы см.: ГАРФ 2306/70/3234/9-10, 16-18; 2306/70/3235/9-10; 2306/70/3236/9-10; 2306/70/3285/151; 2306/70/3381/37-38; О снабжении школ учебниками//Культура и жизнь. 1946. 31 декабря. С 1; РГАСПИ 17/125/626/97, 184; 17/132/57/30, 43; ЦАОДМ 3/82/97/93-94.
(обратно)
764
В то время как государство собиралось перейти к одиннадцатилетнему среднему образованию, один из десяти городских школьников и один из трех деревенских не дотягивали до шестого класса, а из оставшихся не всем удавалось закончить семилетнее образование, которое считалось обязательным минимумом. См. отчеты 1946-1948 годов: РГАСПИ 17/125/557/75-76; 17/132/49/20-23. Об одиннадцатилетнем обучении см.: РГАСПИ 17/125/557/61; 17/132/49/11-13; 17/132/193/2; 17/132/192/120.
(обратно)
765
ГАРФ 2306/70/3263/32-33; отчеты из Владимира, Брянска и Красноярска см.: ГАРФ 2306/70/3254/24, 33: 2306/70/3252/50; 2306/70/3278/101.
(обратно)
766
ГАРФ 2306/70/3381/56-57; 2306/70/3252/45. Не лучше обстояли дела и со сравнительно-историческим аспектом преподавания, потому что мало кто из учителей мог достаточно толково сопоставить царствование Ивана Ш или Ивана IV с правлением Людовика XI, Генриха VII или Карла V. См.: ГАРФ 2306/70/3381/56.
(обратно)
767
ГАРФ 2306/70/3383/7-8; И. Г. Дайри. К итогам экзаменов // Преподавание истории в школе. 1950. № 5. С. 82-83.
(обратно)
768
См., например, резолюции ЦК ВКП (б) января — февраля 1947 года по Владимирской, Ставропольской и Псковской областям — РГАСПИ 17/117/693/115-117; 17/117/696/173; 17/117/699/23. В документах для внутреннего пользования выражается беспокойство о состоянии дел в Краснодаре (17/117/698/52-64), Орловской области, Крыму, Удмуртской АССР (17/132/471/17-22, 38-43, 84-89) а также в и Астраханской, Ленинградской и Куйбышевской областях (17/132/114/91-100, 122-128, 159-163,175-182).
(обратно)
769
Е. Ю. Зубкова. Мир мнений советского человека, 1945-1948: По материалам ЦК ВКП (б) // Отечественная история. 1998. № 4. С. 102-103.
(обратно)
770
РГАСПИ 17/125/311/150 См. также: Kees Boterbloem. Life and Death under Stalin: Kalinin Province, 1945-1953, Montreal , 1999. p. 132-133; A. Weiner. Making Sense of War: > The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton , 2001. P. 82-126.
(обратно)
771
РГАСПИ 17/125/311/150.
(обратно)
772
РГАСПИ 17/125/311/149-150.
(обратно)
773
РГАСПИ 17/125/425/21-22; Boterbloem. Life and Death. P. 124-125
(обратно)
774
РГАСПИ 17/117/693/56.
(обратно)
775
РГАСПИ 17/132/454/202.
(обратно)
776
РГАСПИ 17/125/311/148. Аналогичную картину вскрывают архивы Московской и Калининской областей: ЦАОДМ 4/39/201/91,105; Boterbloan Life and Death. P. 102,110-113, 119-121, 202.
(обратно)
777
ЦАОДМ 5/1/60/29.
(обратно)
778
ЦАОДМ 5/1/87/37-38; 5/1/112/1-2, 44-48. Об улучшениях, достигнутых в результате усилий по повышению образования в партийных рядах, см.: КПСС в цифрах // Партийная жизнь. 1973. № 14. С. 25; Справочник партийного работника. Вып. 18. М., 1974. С. 378-381, 395-396.
(обратно)
779
РГАСПИ 17/132/103/30, 44.
(обратно)
780
См., например: РГАСПИ 17/132/103/30.
(обратно)
781
ЦАОДМ 5/1/60/9, 4, 12; 5/1/87/19.
(обратно)
782
См., например: ЦАОДМ 5/1/81/225, 23об.
(обратно)
783
РГАСПИ 17/132/454/7. Этот раздел, как известно, был написан самим Сталиным.
(обратно)
784
ЦАОДМ 3/81/228/74, 1-9.
(обратно)
785
РГАСПИ 17/125/311/149. В качестве вводного текста к изучению курса Сталин предложил собственную «Краткую биографию»; см.: 629/1/54/23. О низком уровне агитации в массах см.: Boterbloem. Life and Death. P. 131-133.
(обратно)
786
См., например: Партия большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции: Консультации к VII главе «Краткого курса истории ВКП (б)». М., 1949; Партия большевиков в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период: Консультации к XIV теме учебного плана кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП (б)». М., 1950; Партия большевиков в борьбе за диктатуру пролетариата: Консультации к V, VI и VII главам «Краткого курса истории ВКП (б)»/Под ред. Г. Д. Костомарова. М., 1951; см. также: РГАСПИ 17/132/103/6. Эти брошюры продолжали дело, начатое еще до войны такими пособиями, как: В помощь изучающим историю ВКП (б) — консультации к II главе «Краткого курса истории ВКП (б)». М., 1939; В помощь изучающим историю ВКП (б) — консультации к V главе «Краткого курса истории ВКП (б)»/Под ред. А. М. Гуревича. М., 1940; и т. д.
(обратно)
787
Единственным изменением, внесенным в текст, было снятие «врагов народа» вроде Н. И. Ежова. Все предложения по более существенной корректировке текста отметались, даже если они исходили от таких авторитетных лиц, как Б. Волин. См.: РГАСПИ 17/125/254/218-219; 17/132/464/10-12.
(обратно)
788
Как отмечает М. Байтальский, в учебнике отсутствовали даже такие слова и понятия, как «родина» и «советский патриотизм»: Mikhail Baitalsky. Notebooks for the Grandchildren: Recollections of a Trotskyist Who Survived the Stalin Terror/Transl. by Marilyn Vogt-Downey. Adantic Highlands, 1995. P. 101. Еще большее недовольство идеологов вызывал тот факт, что в «Кратком курсе» поднимались вопросы, не считавшиеся более актуальными, – например тема дружбы народов, которая, по замечанию одного из сотрудников Агитпропа, в середине 1940-х годов в прессе уже почти не затрагивалась. См, РГАСПИ 17/125/340/71.
(обратно)
789
Наша великая Родина/Под ред. А. М. Панкратовой, Б. М. Волина и др. М., 1946,1949, 1953.
(обратно)
790
ЦАОДМ 3/81/128/37.
(обратно)
791
ЦАОДМ 3/82/84/54; 3/82/97/141.
(обратно)
792
ЦАОДМ 3/82/60/5-6; 3/82/112/17, 31, 37-38, 53; 3/82/134/20, 58, 63; 3/82/209/26-27, 76-78.
(обратно)
793
ЦАОДМ 3/82/60/5-6; 3/82/112/32-38, 54.
(обратно)
794
См. отчеты 1947 года по Горьковской и Молотовской областям: РГАСПИ 17/125/507/6, 207-208, а также отчеты 1947-1951 годов по состоянию дел на общесоюзном уровне, в Молотовской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Тамбовской и Московской областях: РГАСПИ 17/125/507/202-207; 17/132/456/9, 43-54, 97-101, 125-134, 146-147; 17/132/290/29-32; ЦАОДМ 4/39/165.
(обратно)
795
Фроловский В. Пушкинские чтения: Заметки радиослушателя //Вечерняя Москва. 1947. 6 февраля. С. 3.
(обратно)
796
ЦАОДМ 4/39/224/12, 24.
(обратно)
797
ЦАОДМ 4/39/224/28-29, 31.
(обратно)
798
Другой пример — выступление А. А. Фадеева в 1949 году на Всемирном конгрессе сторонников мира, где писатель подверг критике якобы распространенное на Западе мнение, что «люди так называемого Атлантического сообщества обладают "монополией" на культуру и все знания о человеке, а мы, советские люди, наследники Пушкина и Толстого, Менделеева и Павлова, создавшие первую в мире социалистическую страну, … оказываемся каким-то образом врагами "западной", "атлантической" культуры»; см.: Всемирный конгресс сторонников мира. Выступление А. А. Фадеева//Правда. 1949. 22 апреля. С. 3.
(обратно)
799
ЦАОДМ 4/39/224/14, 22.
(обратно)
800
ЦАОДМ 4/39/224/10. Выступление Тихонова, выдержанное в духе Достоевского, напоминает другую его речь, произнесенную за десять лет до этого; см.: Торжественное заседание в Большом театре, посвященное столетию со дня смерти А. С. Пушкина // Правда. 1937. 11 февраля. С. 3. Несколько месяцев спустя Тихонов с Фадеевым развернули кампанию о «защите» Пушкина от тех критиков, которые, по их мнению, недооценивали национальные корни его творчества и преувеличивали влияния западной литературы на него. Прежде всего, они выступили против И. Нусинова «Пушкин и мировая литература» (М., 1941), но затем расширили круг своих противников, включив в него почти всю критическую школу А. Веселовского; см.: Н. Тихонов. В защиту Пушкина // Культура и жизнь. 1947. 9 мая. С. 4; А. Фадеев. О советском патриотизме и низкопоклонстве перед заграницей // Литературная газета. 1947. 29 июля. С. 1. См. также: Robert M. Hankin. Postwar Soviet Ideology and Literary Scholarship//Through the Glass of Soviet Literature: Views of Russian Society/Ed. by Ernest J. Simmons. New York, 1953. P. 265-279.
(обратно)
801
Так, Герой социалистического труда И. С. Морозов хвалил Пушкина за то, что «он всегда думал о своей стране, о России, и чтил русский народ, превознося его героические подвиги» (ЦАОДМ 4/39/224/17).
(обратно)
802
Москва праздничная//Правда. 1947. 7 сентября. С. 2; Навстречу славному юбилею//Литературная газета. 1947. 2 августа. С. 1; Накануне 800-летия Москвы//Культура и жизнь. 1947. 20 августа. С. 1; И. Власов. Москва – национальная гордость советского народа//Правда. 1947. 5 сентября. С. 4; см. также: Москва послевоенная, 1945-1947: Архивные документы и материалы. М., 2000. С. 221-229, 234-258.
(обратно)
803
Навстречу славному юбилею. С. 1; см. также: ЦАОДМ 4/39/114/152.
(обратно)
804
ЦАОДМ 3/81/89/6, 10, 62; Литературная газета. 1947. 6 сентября. (Весь номер).
(обратно)
805
Приветствие товарища И. В. Сталина // Правда. 1947. 7 сентября. С. 1.
(обратно)
806
Гл. 11. Прим. 8-11.
(обратно)
807
ЦАОДМ 3/81/89/102; см. также гл. 11, прим. 39.
(обратно)
808
Закладка памятника Юрию Долгорукому//Правда. 1947. 8 сентября. С. 2; С. Боянов [С. О. Шмидт]. Юрий Долгорукий//Ленинградская правда. 1947. 6 сентября. С. 3.
(обратно)
809
Так, в отчете по школьному образованию за 1948 год упоминается рассказ учителя школы № 520 об установленном на Красной площади в 1818 году памятнике Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса — РГАСПИ 17/132/192/156об; см. также: Экскурсия на Красной площади у собора Василия Блаженного//Вечерняя Москва. 1947. 12 февраля. С. 2.
(обратно)
810
Л. Никулин. Колыбель русской культуры//Вечерняя Москва. 1947. 28 августа. С. 3; С. Богомазов. Москва в русской литературе//Вечерняя Москва. 1947. 5 сентября. С. 2; Речь академика С. И. Вавилова//Вечерняя Москва. 1947. 8 сентября. С. 2.
(обратно)
811
Marcus С. Levitt Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880. Ithaca, 1989. P. 167. О тиражах см.: Библиография произведений А. С. Пушкина, 1949: юбилейный год. М., 1951. См. также: РГАСПИ 17/132/232.
(обратно)
812
А. Фадеев. Светлый и всеобъемлющий гений//Литературная газета. 1949. 8 июня. С. 1; Levitt. Russian Literary Politics. P. 167-168. В послевоенной пропаганде Пушкина не обходилось, конечно, и без отдельных удручающих эпизодов. Его стихотворение «Памятник», которое в конце 1930-х годов служило своего рода официальным заклинанием, в конце 1940-х следовало читать на школьных уроках, пропуская слова «и друг степей калмык», так как представители этой этнической группы во время войны были, депортированы НКВД, подобно чеченцам, крымским татарам и некоторым другим народам, обвиненным в сотрудничестве с нацистскими оккупантами (интервью, взятое 29 декабря 1999 у Г.И. Богина из г. Твери). О стихотворении Памятник, см. гл. 5, прим. 76.
(обратно)
813
РГАСПИ 17/132/79/7-25.
(обратно)
814
РГАСПИ 17/125/424/60; HP 46/а/4/22; HP l/a/1/20, 41, 46; HP 2/a/1/35; HP 18/a/2/65; HP 17/a/2/78; HP 25s/a/3/40; HP 26/a/3/74; HP 34/a/4/41; HP 34s/a/4/33; HP 41/a/4/46-47; HP 46/a/4/22; HP 61/a/5/35; HP 62/a/6/32; HP 66s/a/6/17. См. также: A. Бобров. О чтении сельской молодежи // Библиотекарь. 1946. № 9-10. С. 36-38. Некоторые исследователи, чтобы создать ложное впечатление о популярности советских писателей, просто не включали дореволюционных в свои анкеты; см.: П. Гуров. Что читают молодые читатели московских библиотек из советской художественной литературы//Библиотекарь. 1948. № 8. С. 33-35. См. также: Евгений Добренко. Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. Гл. 8.
(обратно)
815
А. Н. Толстой. Петр I. Т. 3. М., 1946.
(обратно)
816
К. Осипов. Дорога на Берлин. Исторический роман. М., 1946; В. И. Костылев. Иван Грозный. Невская твердыня, М., 1947.
(обратно)
817
Ю. Слезкин. Брусилов: Роман. М., 1947; Л. Раковский. Генералиссимус Суворов. М., 1947; Раковский. Адмирал Ушаков. М., 1952; М. Яхонтова — Корабли выходят в море. М., 1945; Г. Шторм. Флотоводец Ушаков. М., 1947.
(обратно)
818
Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. М., 1947. С. 14.
(обратно)
819
Василий Ажаев. Далеко от Москвы. М., 1948. С. 339, 416, 482, 539; Thomas Lahusen. How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia . Ithaca, 1997. P. 236. В речи инженера содержится косвенный намек на известные слова Сталина о «революционном русском размахе», которые Молотов повторил почти сорок лет спустя, одном из интервью; см.: Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С.90.
(обратно)
820
Herman Ermolaev. Censorship in Soviet Literature, 1917-1991. New York , 1997. Chap. 3, особ. P.106-115; Thomas Lahusen. The Ethnicization of Nations: Russia , the Soviet Union , and the People // South Atlantic Quarterly. 1995. Vol. 94. № 4. P. 1110-1113.
(обратно)
821
См., например, РГАСПИ 17/132/103/119, С особой бдительностью цензура следила за букинистическими магазинами, торговавшими «трофейной» литературой, в основном европейского происхождения, — порнографическими изданиями, сенсационными романами с описанием постельных сцен между разнополыми и однополыми партнерами и книгами неприемлемыми по политическим соображениям. См.: РГАСПИ 17/125/442/30-44, особ. 32-33; Ermolaev. Censorship. P. 131-136.
(обратно)
822
Лишь 10% всех писем, полученных Всесоюзным комитетом по paдиовещанию в первую послевоенную декаду, касались передач политического содержания. см.: Елена Зубкова. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность, 1945-1953. М., 1999. С. 184.
(обратно)
823
ГАРФ 6903/10/3/5.
(обратно)
824
ГАРФ 6903/10/3/10-37.
(обратно)
825
ГАРФ 6903/10/3/3. О том, какое место в репертуаре радио занимала классическая музыка, говорит и письмо другого радиослушателя, также требовавшего больше народной музыки: «а то без конца "Иван Сусанин" да "Иван Сусанин" — больше нечего слушать». Такие музыкальные вкусы сохранились и после смерти Сталина; см.: ГАРФ 6903/10/10/2, 6-8.
(обратно)
826
Б. Ростоцкий. Героический образ. «Полководец» в Центральном театре Красной армии//Театр. 1945. № 2. С. 6-10; Юрий Оснос. Пьеса о царе Иване IV //Литературная газета. 1946. 29 июня. С. 4
(обратно)
827
49-й сезон МХАТа//Вечерняя Москва. 1947. 8 июня. С. 3. 1
(обратно)
828
«Борис Годунов»: Народная музыкальная драма Мусоргского на сцене Большого театра//Культура и жизнь. 1947. 21 мая С. 4: В. Богданов-Березовский. «Война и мир» Прокофьева: Ленинградский Малый оперный театр//Театр. 1947. № 7. С. 6-8; Е. Варваци. «Севастопольцы». Опера М. Коваля в Московском театре оперы и балета // Правда. 1946. 26 декабря. С. 4; К. Самойло. Опера о Дмитрии Донском // Вечерняя Москва. 1947. 2 августа. С. 3. Оперу ««Борис Годунов» преследовали неудачи. После провального сезона 1947 года в постановке М. Храпченко в 1948 году был назначен новый постановщик, который внес изменения в либретто с целью отвести более активную роль народу и показать Годунова как талантливого государственного деятеля. Агитпропу, однако, эти новшества не понравились. См.: РГАСПИ 17/132/84/87-88
(обратно)
829
Развивать и совершенствовать советскую музыку // Культура и жизнь. 1948. 21 марта. С. 3. Об отношении к русской классике. см.: В. Сурин. Репертуар оперных театров // Театр. 1947. № 1. С. 17-27; Kiril Tomoff. Creative Union : The Professional Organization of Soviet Composers: 1939-1953. Ithaca, 2006. P. 95-214.
(обратно)
830
Как и в случае с историографией, преследование попыток возродить прошлое на сцене относилось в период «ждановщины» в основном к постановкам в других республиках. После того, как партийное руководство выразило свое негативное отношение к современной опере, Жданов 13 января 1948 года выступил перед авторитетными представителями советской музыкальной общественности. См.: Об опере «Великая дружба» В. Мурадели //Театр. 1948. № 3. С. 4; За классическую советскую оперу // Театр. 1948. № 4. С. 3-6; в. Кухарский. Русская классика в оперном театре//Театр. 1948. № 7. С. 28-35.
(обратно)
831
Сурин. Репертуар оперных театров. С. 24 Исключения из этого правила — например. «Богдан Хмельницкий» Корнейчука или «Ярослав Мудрый» Кочерги — в обязательном порядке должны были получить санкцию партийного руководства страны. См : М Крушельницкий. Традиции, репертуар //Театр. 1945. № 2. С. 60: S. Yekelchyk. Stalin's Empire of Memory: Russian-Ukranian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto. 2004. P. 129-152.
(обратно)
832
РГАСПИ 17/125/311/127-129.
(обратно)
833
Русская классика в национальных театрах//Театр. 1945. № 2. С. 59: Смотр русской классики // Театр. 1946. № 3-4. С. 64; М. М. Григорьев. Классика и современность // Театр. 1946. № 5-6. С. 17-22; Русский театр в братской республике // Театр. 1948. № 7. С. 3-5.
(обратно)
834
Русская классика в национальных театрах. С. 59.
(обратно)
835
Больше высокохудожественных фильмов / /Культура и жизнь. 1947. 10 октября. С. 1; М. Чаурели. Насущные задачи советской кинодраматургии // Правда. 1949. 15 января. С. 3. Исключениями из этого правила были только фильмы «Тарас Шевченко» (И. Савченко, 1951) и «Джамбул» (Э. Дзиган. 1953).
(обратно)
836
Хотя запрет второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейна на первый взгляд противоречит этому утверждению, при более внимательном изучении этого вопроса выясняется, что фильм был запрещен за недостаточную идеализацию русского царя. Впоследствии Эйзенштейну и Пырьеву было предложено переработать вторую серию; см.: Г. Марьямов. Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино. М., 1992. С. 94; РГАСПИ 17/132/88/63-86; 17,132/249/114-116; гл. 11, прим. 12.
(обратно)
837
«Александр Попов» (Г. Раппопорт, 1949); «Пирогов» (Г. Козинце», 1947); «Мичурин» (А. Довженко, 1948); «Академик Иван Павлов» (Г. Рошаль, 1949); «Жуковский» (Вс. Пудовкин, 1950); «Пржевальский» (С. Юткевич, 1951). См. также: РГАСПИ 17/132/251/1-3, 72-80. Советская культура представляла Пржевальского как человека, испытывающего большое уважение и любовь ко всем азиатским народам, для чего при публикации его работ потребовалось вычеркнуть несколько особенно резких мнений в адрес китайцев. Ср., например, оригинальное издание его книги «Монголия и страна тангутов: Трехлетнее путешествие в восточной нагорной Азии» (СПб., 1875) и ее переиздание в советское время (М., 1946).
(обратно)
838
«Глинка» (Арнштам, 1946); «Мусоргский» (Рошаль, 1950); «Римский-Корсаков» (Рошаль, 1953) — см.: В. Кожевников. Фильм о великом русском композиторе // Культура и жизнь. 1947. 11 февраля. С. 4; «Белинский» (Козинцев, 1950).
(обратно)
839
«Адмирал Нахимов» (Пудовкин, 1946); «Крейсер “Варяг”» (В. Эйсымонт, 1947); «Адмирал Ушаков» (М. Ромм, 1953). В первоначальной версии фильма Пудовкина адмирал Нахимов покровительствовал романтическим увлечениям подчиненных ему офицеров и устраивал их свадьбы. Прознав об этом, ЦК немедленно и решительно пресек эти режиссерские «находки»; см.: О кинофильме «Большая жизнь» // Литературная газета. 1946. 14 сентября. С. 1. После внесения поправок фильм был удостоен Сталинской премии; см.: В. Степанов. Кинофильм «Адмирал Нахимов» // Культура и жизнь. 1946. 14 сентября. С. 1; Степанов. Выдающиеся произведения советской кинематографии//Культура и жизнь. 1947. 10 июня. С. 4.
(обратно)
840
См.: Вечерняя Москва. 1947. 23 октября. С. 4; Вечерняя Москва. 1947. 11 ноября. С. 4.
(обратно)
841
Кинотеатры готовятся к юбилею // Вечерняя Москва. 1947. 11 августа С. 2; Юбилейный кинофестиваль // Правда. 1947. 23 августа. С. 3.
(обратно)
842
Сводная программа № 1// Вечерняя Москва. 1947. 25 августа. С. 4; Вечерняя Москва. 1947. 13 октября. С. 4; См. выше прим. 836. О популярности кинофильмов на исторические темы см, HP 25s/a/3/40; HP 41/а/4.47; HP 64/а/6/35.
(обратно)
843
Новые отделы Эрмитажа//Правда. 1946. 13 октября. С. 2; История русской культуры: Новый отдел в Эрмитаже//Правда. 1946. 22 декабря. С. 4; Героическое военное прошлое русского народа [Путеводитель по выставке в Гос. Эрмитаже]. М., 1953; Выставка материалов по истории русской культуры XVIII века: Путеводитель. Л., 1949.
(обратно)
844
В Третьяковской галерее // Вечерняя Москва. 1947. 28 августа. С. 3.
(обратно)
845
ОР ГТГ 8 II/12/59об, 139об.
(обратно)
846
Выставка русской графики // Правда. 1949. 13 января. С. 4.
(обратно)
847
Восстановлен музей И. Никитина // Литературная газета. 1946. 18 мая. С. 1; Музей Н. А. Некрасова//Литературная газета. 1946. 16 ноября. С. 4; Музей Л. Н. Толстого в Астапове //Литературная газета. 1946. 23 ноября. С. 4; Открытие памятника Н. Г. Чернышевскому в Ленинграде // Литературная газета. 1947. 8 февраля. С. 3.
(обратно)
848
Памяти А. С. Пушкина // Литературная газета. 1947. 8 февраля. С. 4; Памяти великого поэта//Вечерняя Москва. 1947. 31 января. С. 3; Последняя квартира А. С. Пушкина. С. 4; Дом, где жил Пушкин//Литературная газета. 1946.18 мая. С. 1.
(обратно)
849
К 800-летю Москвы//Литературная газета. 1947. 1 февраля. С 4; Выставки, посвященные истории Москвы//Правда. 1947. 19.июля. С. 2; Художественная выставка к 800-летию Москвы//Правда. 1947. 31 июля. С. 2; В музее истории и реконструкции Москвы//Правда. 1947. 10 августа. С. 4; А. Шабанов. В музее истории и реконструкции Москвы//Правда. 1947. 26 августа. С. 2.
(обратно)
850
ЦАОДМ 4/39/201/94-95, 102-103; Г. З. Конференция учителей истории г. Москвы // Преподавание истории в школе. 1947. № 1. С. 72; Начальная школа: Настольная книга учителя/Под ред. М. А. Мельникова. М., 1950. С. 164; Е. Н. Мельникова. Народное образование в СССР. М., 1952. С. 22.
(обратно)
851
Государственный исторический музей: Путеводитель по залу «Образование Русского государства». М., 1951. С. 3; Галерея Петра I [Путеводитель по выставке в Гос. Эрмитаже]. Л., 1949.
(обратно)
852
РГАСПИ 17/132/192/218об.
(обратно)
853
ОР ГТГ 8.ІІ/12, 27; запись от 3 ноября 1948 года в: Дневник Т. П. Мазур — ЦДНА 314/1/23/36.
(обратно)
854
ЦАОДМ 4/39/88/74.
(обратно)
855
ЦАОДМ 4/39/88/767. Бригадир Бикодер, работавший на московском Заводе № 10, выразился по поводу вступления войск Красной Армии в Берлин еще более воинственно: «Сто лет Германия будет помнить, что с русскими шутить нельзя». Аналогичные чувства высказал котельный машинист завода «Борец» Носков — см.: ЦАОДМ 4/39/88/74, 37-38.
(обратно)
856
ЦАОДМ 4/39/88/73-74. Студенты также проводили параллель между вступлением русских войск в Берлин во время Семилетней войны и взятием Берлина в 1945 году; см.: ГАРФ 2306/70/3252/46. О пьесе «Ключи от Берлина» см. гл. 9, прим. 43.
(обратно)
857
См., например: Е. Ю. Зубкова. Мир мнений советского человека, 1945-1948: По материалам ЦК ВКП (б)//Отечественная история. 1998. № 3, 4. С. 25-39, 99-108; Зубкова. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность, 1945-1953. М., 2000; Kees Boterbloem. Life and Death under Stalin: Kalinin Province, 1945-1953. Montreal , 1999. . Особ. chap. 4; Amir Zweiner. The Making of a Dominant Myth: The Second World War and the Construction of Political Idenities within the Soviet Polity // Russian Review. 1996. Vol. 55. № 4. P. 638-660; Sheila Fitzpatrick. Postwar Soviet Society: The return to Normalcy’, 1945-1953//The Impact of World War II on the Soviet Union/Ed. by Susan J. Linz. Princeton, 1985. P. 129-156.
(обратно)
858
ЦАОДМ 3/61/46/135-136, опубл. в: Москва послевоенная, 1945-1947: Архивные документы и материалы. М., 2000. С. 52-53.
(обратно)
859
Необходимо признать, что выражение какого-либо недовольства «связи со словами Сталина было крайне редким, и к тому же у осведомителей, возможно, имелись причины приписать его гражданам нерусских национальностей. Тем не менее, ответственный сотрудник одной из типографий Пасманник заметил партийному работнику Янушпольской: «Меня удивляет, что товарищ Сталин, который всегда подчеркивал значение интернационализма в нашей стране, теперь особо выделил русский народ», инженер Эпштейн, работавший в народном комиссариате по электрификации, выразил озабоченность тем, «как бы оценка товарищем Сталиным русского народа в Отечественной войне не привела к зазнайству и противопоставлению одной нации другой». Интересны также высказывания рабочих завода «Станколит»: «Непонятно, почему только о русском народе говорил товарищ Сталин, а ведь украинский, белорусский и другие народы переносили большие трудности и героически боролись с врагом». См.: ЦАОДМ 3/61/46/135-136, опубл. в: Москва военная. С. 53. Имелись и Другие возражения — как со стороны убежденных коммунистов вроде З. Бенцкович-Лигетти, жены венгерского революционера Кароя Лигетти, так и других граждан — например, учителя из Свердловска А. С. Ладейщикова, которого беспокоил вопрос, не слишком ли сближается Сталин, подчеркивая «терпение» русского народа, со славянофильским наследием XIХ века, почвенничеством Достоевского и толстовской идеализацией крестьянства. См.: НА ИРИ РАН 14/11/6-9; Г. Д. Бурдей. Историк и война, 1941-1945. Саратов, 1991. С. 196-199.
(обратно)
860
ЦАОДМ 4/39/88/33
(обратно)
861
ЦАОДМ 4/39/88/34. Фраза о «пяти веках вражды», по-видимому, заимствована у Сталина; см.: Речь тов. И. В. Сталина при подписании при подписании договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской республикой (21 апреля 1945 г.) // О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946. С. 182-184.
(обратно)
862
ЦАОДМ 4/37/88/33. Цитата взята из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831), в котором поэт поддерживает подавление восстания, вспыхнувшего в то время в Польше.
(обратно)
863
О довоенном панславизме см.: Jan Т. Gross. Revolution from Abroad: the Soviet Conquest of Poland 's Western Ukraine and Western Belorussia . Princeton , 1988; Eva Thompson. Soviet Russian Writers and the Soviet Invasion of Poland in September 1939//The Search for Self-Definition in Russian Literature. Houston, 1991. C. 158-166; A, M. Дубровский. «Весь славянский мир должен объединиться»: Идея славянского единства в идеологии ВКП (б) в 1930-1940-х гг. //Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Вып. 1. Брянск, 2000. С. 195-209. Идея панславизма была встречена народными массами с энтузиазмом — хотя и быстро угасшем. Старкова, работница Завода № 18 Москворецкого района столицы, сказала о договоре с Югославией, что он «как молот ударит по голове фашистских банд, никогда больше славянские народы не допустят новой агрессии со стороны Германии». Когда неделю спустя был подписан еще один договор, прядильщица Краснохолмского камвольного комбината Мишукова и начальник цеха Завода № 381 Демьяновский были единодушны в своих чувствах: «Стремление немцев уничтожить славянские народы потерпело крах. Сталинская национальная политика ведет к объединению и дружбе все славянские народы». Аналогичные мысли высказывали и другие московские рабочие: Рыбаков, трудившийся на Заводе № 70, Дубнецкий — на Моторостроительном заводе, Кирсанов — на инструментальной фабрике и Сомов — на вагоноремонтном заводе «СВАРЗ». См.: ЦАОДМ 4/39/88/6, 12, 31-33, 98-99.
(обратно)
864
Архив УФСБ-СПбЛО, опубл. в: Международное положение глазами ленинградцев, 1941-1945 (из Архива Управления Федеральной службы безопасности по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). СПб., 1996. С. 133. При опросе работниками «Гарвардского проекта» русские респонденты отзывались о поляках как о «мстительных» людях; см.: HP 19/а/2/14; HP 51/а/5/47.
(обратно)
865
Запись от 6 января 1948 года в: Лидия Чуковская. Из дневниковых записей//Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 93. Некоторые представители интеллигенции пытались в конце 1940 годов сделать реальные шаги к укреплению отношений со славянскими народами; см.: Н. А. Горская. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999. Гл. 4-5.
(обратно)
866
Архив УФСБ-СПбЛО, опубл. в: Международное положение глазами ленинградцев. С. 137.
(обратно)
867
Архив УФСБ-СПбЛО, опубл. в: Там же. С. 143.
(обратно)
868
ЦАОДМ 4/39/88/81.
(обратно)
869
Архив УФСБ-СПбЛО, опубл. в: Международное положение глазами ленинградцев. С. 159. Школьники в своих ответах повторяли те же сентенции еще в 1950 году; см.: И. Г. Дайри. К итогам экзаменов//Преподавание истории в школе. 1950. № 5. С. 78.
(обратно)
870
Обращение И. В. Сталина к народу//О Великой Отечественной войне. С. 203-206.
(обратно)
871
ЦАОДМ 4/39/88/77.
(обратно)
872
ЦАОДМ. 4/39/88/113. Исторические аналогии, разумеется, касались и событий советской эпохи. Когда металлург одного из московских заводов Зубрицкий узнал о знаменитой речи Черчилля 1946 года в Фултоне (Миссури), он громко выразил недоумение: «Чего хочет Черчилль? Он хочет войны против Советской республики. Но пусть он вспомнит 1920 год». Зубрицкий имел в виду поражение, нанесенное (согласно советской мифологии) Советской Россией интервентам из четырнадцати стран во время Гражданской войны. См.: ЦАОДМ 4/39/114/14.
(обратно)
873
РГАСПИ 17/117/1032/46-67, опубл. в: «Литературный фронт»: История политической цензуры, 1932-1946. Сборник документов/Под ред. Д. Бабиченко. М., 1994. С. 204.
(обратно)
874
Константин Симонов. Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. М., 1988. С. 129.
(обратно)
875
РГАЛИ 1038/1/2117/40, частично опубл. в: Вс Вишневский. Из дневников 1944-1948 гг.//Киноведческие записки. 1998. № 38. С. 67, 74-75; см. также: Е. Левин. Историческая трагедия как жанр и как судьба; По страницам двух стенограмм 1944-1946 годов//Искусство кино. 1991. Не 9. С 83-92; Иосиф Юзовский. Эйзенштейн//Эйзенштейн в воспоминаниях временников. М., 1974. С. 412; Р. Юренев. Сергей Эйзенштейн — замыслы, фильмы, метод. Т. 2. М., 1988. С. 276-279; РГАЛИ 1923/1/2289/113об; 2073/1/11/154-455.
(обратно)
876
Thomas Lahusen How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia . Ithaca, 1997. P. 153.
(обратно)
877
ЦАОДМ 4/39/114/78. Русские беженцы, жившие после воины в организованных для них лагерях в Западной Германии, воспринимали действительность примерно так же; см.: Eugenia Hanfmann and Helen Boer, Six Russian Men: Lives in Turmoil. North Quincy, Mass., 1976. P. 52-55, 66-67, 80,97.
(обратно)
878
Татьяна Лещенко-Сухомлина. Долгое будущее: Дневник-воспоминания. Т. 1. М., 1991. С. 238, 252, 256-258, 277.
(обратно)
879
Записи от 9 мая, 15 июня и 24 августа 1945 года в: Олег Фрелих. Человек не советских настроений: Из писем и дневников. // Искусство кино. 1993. № 6. С. 144; Фрелих. Человек возвращается домой: Из записей 1930-х годов//Московский наблюдатель. 1992. № 10. С. 61.
(обратно)
880
См. гл. 6, прим. 53.
(обратно)
881
Запись от 14 июня 1945 года в: Михаил Пришвин. Из дневника 1945 года//Образ. 1995. № 2. С. 41. Пустившись в философские рассуждения о природе русского характера, Пришвин приходит к выводу, что «недуг русского – его здоровье и его идеализм»; см.: запись от 4 июня 1946 года в: Пришвин. Дневник//Литературное обозрение. 1990. № 8. С. 104
(обратно)
882
Запись от 25 мая 1945 года в: М. Пришвин. Из дневника 1945 года. С. 39.
(обратно)
883
Записи от 1 и 16 мая 1946 года в: Лещенко-Сухомлина. Долгое будущее. С. 256, 258.
(обратно)
884
ЦАОДМ 3/61/46/137-140, опубл. в: Москва послевоенная. С 50.
(обратно)
885
Архив УФСБ-СПбЛО, опубл. в: Международное положение глазами лениградцев. С 156.
(обратно)
886
HP 4/а/1/25; HP 14/а/2/51; HP 18/а/2/67.
(обратно)
887
HP 6/а/1/74; HP 18/a/2/66.
(обратно)
888
HP 8/a/l/32.
(обратно)
889
4 интервью: HP 2/a/l/33; HP 14/a/2/51-52; HP 25/a/3/49; HP 33/a/4/34.
(обратно)
890
9 интервью: HP 6/a/l/74, 77; HP 13/a/2/47; HP 18/a/2/67; HP 25/a/3/49; HP 26/a/3/76; HP 28/a/3/18; HP 33/a/4/34; HP 34/a/4/35; Hp 51/3/5/49.
(обратно)
891
4 интервью: HP 2/a/1/33; HP 4/a/l/24; HP 14/a/2/5I; HP 26/a/3/69.
(обратно)
892
13 интервью: HP 1/a/1/20, 41, 46; HP 2/3/1/35; HP 18/a/2/65; HP 17/3/2/78; HP 25s/a/3/40; HP 26/3/3/74; HP 34/3/4/41: HP 34s/a/4/33; HP 41/3/4/46-47; HP 46/3/4/22; HP 61/a/5/35; HP 62/a/6/32; HP 66s/3/6/17.
(обратно)
893
7 интервью: HP l/a/1/20; HP 5/3/1/56; HP 10/a/1/23-24; HP 11/a/2/43; HP 17/a/2/74, 78; HP 26/a/3/74; HP 56/3/5/38.
(обратно)
894
5 интервью: HP 5/a/l/56; HP 11/a/2/43, 49; HP 17/a/2/78; HP 26/3/3/75, 82; HP 33/a/4/45.
(обратно)
895
HP 14/3/2/53; HP 18/3/2/60.
(обратно)
896
К их числу отнесли безрассудство, безответственность и отсталость; см.: HP 6/а/1/74; HP 14/a/2/51; HP 51/a/5/49.
(обратно)
897
Возможно, «брань» была на самом деле едким замечанием по поводу смехотворности того факта, что русский, пытаясь доказать якуту свое превосходство, цитирует грузина; см.: РГАСПИ 17/125/507/10.
(обратно)
898
HP 60/а/5/25. Документы «Гарвардского проекта» недвусмысленно указывают на «ориентализацию» русскими других народов Советского Союза (особенно украинцев, евреев, грузин, армян и калмыков).
(обратно)
899
Запись от 15 декабря 1945 года в: Лещенко-Сухомлина. Долгое будущее. С. 251.
(обратно)
900
Аксенов Ю. С. Послевоенный сталинизм: Удар по интеллигенции //Кентавр. 1991. № 1. С. 80-89.
(обратно)
901
О «карьеризме» см. 7 интервью: HP 6/a/1/76-77; HP 28/а/3/18; HP 34/3/4/34; HP 42/а/4/35; HP 56/а/5/34; HP 58/а/5/24; HP 60/э/5/25; о торговле –10 интервью: HP l/a/1/16; HP 4/а/1/24; HP 5/а/1/51; HP 6/3/1/76-77; HP 28/а/3/18; HP ЗЗ/а/4/34-35; HP 34/э/4/34; HP 42/а/4/35; HP 56/3/5/34; HP 61/3/5/51; о работе на заводе – 8 интервью: HP 4/а/1/24; HP 6/3/1/76; HP 18/3/2/61; HP 26/3/3/69; HP 33/a/4/35; HP 58/a/5/24; HP 60/а/5/25; HP 61 /a/5/51.
(обратно)
902
О противопоставлении евреев русским сразу после войны см.: запись от 21 мая 1945 года в: М. Пришвин. Из дневника 1945 года. С. 39; запись от 11 июля 1945 года в: А. Н. Болдырев. Осадная запись: Блокадный дневник. СПб., 1998. С. 348.
(обратно)
903
О нелепости этих обвинений говорит хотя бы тот факт, что во время войны усилиями Апгитпропа магистральное направление советского искусства было тщательно очищено от всякого иностранного влияния. Т. М. Зуева, заместитель начальника отдела ЦК по культурно-просветительской работе, еще весной 1944 года докладывала Щербакову, что «в основном это пренебрежение к русской культуре [распространенное в 30-е годы] более или менее ликвидировано, хотя остатки этого явления и сейчас есть. Проводится ряд конкретных мероприятий. Во всех театрах введены русские классики. Внимание Управления по делам искусств направлено на вопросы развития и укрепления русской национальной культуры». См.: РГАСПИ 17/125/221/20. О чистках во время войны см.: Ю. Аксенов. Послевоенный сталинизм. С. 84-86; Г. Костырченко. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. М., 1994. С. 9-14.
(обратно)
904
Г. Костырченко. В плену у красного фараона. С. 153-288; Г. Костырченко. Идеологические чистки второй половины 1940-х годов: Псевдопатриоты против псевдокосмополитов // Россия. XX век. Т. 4. Ч. 2. Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал, М., 1997.
(обратно)
905
См., например: Ефим Килинский. Врачи-убийцы и убийцы врачей // СССР: Внутренние противоречия. Т. 14. Benson NH, 1985. С 197, 249. Все вышесказанное, конечно, не означает, что антисемитизм стал проблемой только после войны. С. Дейвис убедительно показывает, что в советском обществе постоянно бродили антисемитские настроения – и в 1920-е, и 1930 годы: Sarah Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia : Terror, Propaganda and Dissent, 1933-1941. Cambridge , Eng. , 1997. P. 83-38, 125-129, 132, 136.
(обратно)
906
РГАНИ 5/16/602/4-34, особ-.12, 35, 44-45. См.: А. Локшин. «Дело врачей»: Отклики трудящихся // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 1. С. 52-62.
(обратно)
907
РГАНИ 5/16/602/43-47, особ. 43; см. также: Boterbloem. Life and Death. P. 148.
(обратно)
908
РГАНИ 5/30/6/1-1об.
(обратно)
909
РГАНИ 5/30/5/14.
(обратно)
910
РГАНИ 5/30/5/45. Пассаж о бомбах является откликом на сообщение о загадочном взрыве в здании советской дипломатической миссии в Тель-Авиве 9 февраля 1953 года.
(обратно)
911
РГАНИ 5/30/5/32.
(обратно)
912
РГАНИ 5/6/602/49-52, особ. 51-52.
(обратно)
913
Еще в 1949 году историк С. С. Дмитриев упрекал некоторых своих коллег в оголтелом антисемитизме; см: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева//Отечественная история. 1999. №3. С. 149.
(обратно)
914
РГАНИ 5/30/5/36. В одном из анонимных писем, присланных из Куйбышева, эта точка зрения выражена еще более резко: «Стыд и срам, Товарищи вместо классового подхода воспитывать национальную ненависть и рознь. Не это нам завещал Ленин. Вы отступили от марксизма, от заветов Ленина, вы ложно и неправильно, в тенденциозном духе царского “Союза русского народа” и "Союза Михаила-архангела" Пуришкевичей и Марковых ориентировали наш советский народ и вели погромную пропаганду»; см.: РГАНИ 5/30/5/36.
(обратно)
915
Об антисемитизме в армии см.: Лазорев В. Последняя болезнь Сталина: из отчетов МГБ СССР о настроениях в армии весной 1953 г. // Неизвестная Россия – XX век. Т. 2. М., 1994. С. 253-260.
(обратно)
916
Ср. это с гибридизированным понятием единой русско-советской идентичности, выдвинутым другими исследователями: Frederick С. Barghoorn. Soviet Russian Nationalism. New York , 1956. Esp. p. 182; Jeffrey Brooks. «Thank You, Comrade Stalin»: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, 1999. Особ. P. 195, 21-2-216, 226-227.
(обратно)
917
См.: Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М, 1991. С. 90.
(обратно)
918
РГАСПИ 17/118/808/53, 57, 66, 74, 77 и др.
(обратно)
919
Там же. 53-53об. Доносчик писал, что Волков прекратил разговоры о проекте РКП (б) в конце 1949 года, когда до Кишинева дошла весть, что Кузнецов арестован и расстрелян. Об этом упоминает также Н. К. Смирнов в своей жалобе на секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) А. Д. Вербицкого; см.: РГАНИ 6/118/808/61.
(обратно)
920
РГАСПИ 17/118/808/52.
(обратно)
921
Возможно, все тайны, связанные с этим делом, никогда не удастся раскрыть. Многие важнейшие документы были уничтожены Г. М. Маленковым в 1953-1957 годы, а остальные (ранее хранившиеся в архивах ЦК, НКВД и ленинградской парторганизации) теперь содержатся в президентском архиве, засекречены и недоступны. В конце 1980 годов сотрудник Института Маркса-Энгельса-Ленина Т. Б. Томан говорил, что досье по этому делу основательно вычищены — см.: О так называемом «Ленинградском деле»//Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 133-134; Демидов Виктор. Ленинградское дело: попытка реконструкции//Звезда. 1989. № 1. С. 145.
(обратно)
922
Собчак А. Из Ленинграда в Петербург: путешествие во времени и пространстве. СПб., 1999. С. 91. Собчак признает, что разговоры о РКП (б) были «не больше чем слухи и догадки, но настойчивость, с которой они повторялись, заставляет думать о том, что могло быть и так». Хотя Собчак, как он пишет, пытался исследовать «Ленинградское дело», будучи мэром, но даже он имел доступ не ко всем городским архивам и не мог подтвердить свои догадки документально.
(обратно)
923
РГАСПИ 17/118/808/62, 64, 66, 74, 77.
(обратно)
924
Поскольку Слепов больше не входил в состав руководства молдавской парторганизации, он был удобным козлом отпущения; см.: Там же. 58.
(обратно)
925
РГАСПИ 17/118/808/69.
(обратно)
926
Там же. 57-58.
(обратно)
927
Там же. 54-55.
(обратно)
928
Ленинградское дело/Под ред. В, И. Демидова и В. А. Кузнецова. Л., 1990. С. 177-262.
(обратно)
929
РГАНИ 6/13/78/36/53, цит в: Р. Г. Пихоя Советский Союз: история власти, 1945-1991. М., 1998 С. 66. Пихоя имел доступ к подобным засекреченным материалам, поскольку был директором Росархива в 1990 годы.
(обратно)
930
С. Куняев. Постскриптум I //Наш современник. 1995. № 10. C/ 184-198; О. Платонов. Тайная история России: XX век. М., 1996. С. 304-311; И. Шафаревич. Русские в эпоху коммунизма //Москва. 1999. С. 158. А. Байгушев. Русская партия внутри КПСС. М., 2005. С. 172-178.
(обратно)
931
Хотя в общих чертах история «Ленинградского дела» известна давно, в последнее время появились исследования, основанные на архивных материалах и уточняющие кое-какие детали: Елена Зубкова. Кадровая политика и чистки в КПСС (1945-1956) // Свободная мысль. 1999. № 3. 4, 6; А. Пыжиков. Ленинградская группа: путь во власть (1946-1949) // Свободная мысль. 2001. № 2. С. 89-104. К новым источникам, помимо открытых архивов, относятся опубликованные недавно мемуары: Д. Т. Шепилов. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 3-45; А И. Микоян. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999. С. 559-568. О жертвах произведенной чистки см.: О так называемом «Ленинградском деле». С. 126-137. Этот материал опубликован повторно в издании: Реабилитация: Политические процессы 30-х – 50-х годов/Под ред. А. Н. Яковлева. М., 1991. С 311-322. Процесс рассматривается также в следующих публикациях: William McCagg. Stalin Embattled, 1943-1948. Detroit , 1978. P. 118-148; Werner G. Hahn. Postwar Soviet Politics. The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation, 1947-1953. Ithaca , 1982. P. 122-129; В. А Кутузов. Так называемое «Ленинградское дело» // Вопросы истории КПСС. 1989. № 3. С. 53-67; Michael Parrish. The Lesser Terror: Soviet State Security, 1939-1953. Westport , 1996. P. 215-222; Yoram Gorlizki and Oleg Khlevnuk. Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling Circle , 1945-1953. Oxford , 2004. P. 70-95, 111-119. Один лишь Г. В. Костырченко обратил внимание на националистический аспект этого дела в своих работах: Маленков против Жданова: Игры сталинских фаворитов // Родина. 2000. № 9. С. 85-92; Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М., 2001. С 288-309; В плену у красного фараона: Политическое преследование евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие – документальное исследование. М., 1994. С. 24, 190-191.
(обратно)
932
По обвинению в коррупции, раскрытой в 1946 году в военно-промышленном комплексе, были арестованы нарком авиастроения А. И. Шахурин и несколько членов командного состава Военно-воздушных сил, включая А. А. Новикова.
(обратно)
933
А. Микоян. Так было: Размышления о минувшем. С. 565.
(обратно)
934
Хотя поношение А. Ахматовой и М. Зощенко, положившее начало так называемой «ждановщине», традиционно считается проявлением силы Жданова, возглавлявшего идеологическую работу, на самом деле эта кампания нанесла чувствительный удар по старой ленинградской парторганизации, допустившей эти нежелательные публикации. 18 месяцев спустя, на заседании политбюро в апреле 1948 года, Сталин отчитал Жданова за то, что его сын, работавший в Агитпропе, подверг сомнению приоритет советской науки. В июне того же года Жданову, отвечавшему за политику СССР в Восточной Европе, пришлось признать свой провал в урегулировании отношений с Югославией, которые настолько, испортились, что эта страна была исключена из Коминформа.
(обратно)
935
1-й секретарь Ленинградского обкома партии Ф. Р. Козлов заявил в 1957 году, что «десятки тысяч невинных людей были отправлены из Ленинграда в ссылку, многие из них были арестованы и расстреляны, многие погибли»; см.: Пленум ЦК КПСС (июнь 1957 года): Стенографический отчет. М., 1958. С. 91. Другие источники констатируют, что жертв было значительно меньше; см.: ГАРФ 8131/32/3989/63-65, опубл. в: Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР, 1945-1953/Под ред. О. Хлевнюк и др. М., 2002. С. 306-307.
(обратно)
936
Хрущев в своих мемуарах назвал «националистическими» как раз обвинения в адрес ленинградской партийной организации; см.: Н. С. Хрущев. Воспоминания: время, люди, власть. Т. 2. М., 1999. С. 21, 23-29 (впервые опубл.: Мемуары Никиты Хрущева//Вопросы истории. 1991. №. 11. С. 44-48). Еще более красноречива первоначальная аудиозапись текста Хрущева; см.: The Memoirs of Nikita Khrushchev: the Original Dictation (digital audio recording, Brown University), CD 058, track 058A. Групповщине уделялось большое внимание в обвинительных документах по этому делу; см.: The Dmitrii A. Volkogonov Papers. Harvard University. Reel 2, container 3, folder 14, pp. 1-37 (оригинал, хранящийся в архивах ФСБ в Москве, засекречен).
(обратно)
937
Различные толкования русского национализма см. в: Peter Kenez. А History of the Soviet Union from the Beginning to the End. Cambridge , 1999. P. 182; Service Robert A History of Twentieth Century Russia . Cambridge , Mass. , 1998. P. 314; Geoffrey Hosking. The First Socialist Society: A History of the Soviet Union from Within, second enlarged edition. Cambridge , Mass. , 1997. P. 312; David L. Hoffmann. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941. Ithaca, 2003. P. 165-166.
(обратно)
938
Пихоя. Советский Союз: история власти. С. 41-56.
(обратно)
939
Хотя «великодержавный шовинизм» сурово преследовался в 1920 годы, в 1934 году состоялся последний процесс над «русскими националистами». См.: Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов. Дело славистов: 30-е годы. М., 1994.
(обратно)
940
Членов партии, судя по всему, можно было разделить в 1940 годы на две группы: тех, кто проводил руссоцентристскую политику из патриотических побуждений, и тех, кто делал это с целью укрепления режима. Один из респондентов «Гарвардского проекта» отметил эту разницу, сказав, что «рядовой член партии может быть русским националистом, но коммунисты и сталинисты у власти — нет, потому что в глубине души они равнодушны к интересам России». См.: HP 25/а/2/31-32.
(обратно)
941
О торжествах в честь Пушкина см.: Marcus С. Levitt Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880. Ithaca, 1989. P. 167-168; о праздновании 800-летия Москвы см.: Москва послевоенная. С. 221-229, 234-258.
(обратно)
942
До этого работой республиканских парторганизаций руководил Маленков — см.: РГАСПИ 17/3/1057/2, цит. в: Пыжиков. Ленинградская группа: путь во власть. С. 92.
(обратно)
943
См. показания С. Д. Воинова, бывшего адъютанта Кузнецова в Военсовете Ленинградского фронта, цит. в: Александр Афанасьев. Победитель // Комсомольская правда. 1988. 16 января. С. 2, перепечатано в: Возвращенные имена. Т. 1. М., 1989. С. 314-315.
(обратно)
944
Эта цитата представляет собой текст аудиозаписи, сделанной Хрущевым 28 марта 1968 года — см.: The Memoirs of Nikita Khrushchev; the Original Dictation (digital audio recording, Brown University). CD 058. Track 056A. В несколько обработанном виде запись опубликована в: Хрущев. Воспоминания: время, люди, власть. Т. 2. С. 26-27. Молотов также смутно вспоминает, что Жданов координировал работу региональных парторганизаций, хотя и путает некоторые детали; см. второе издание бесед Ф. Чуева с Молотовым: Ф. Чуев. Молотов: Полудержавный властелин. М., 2000. С. 268.
(обратно)
945
Бюро Российской Федерации существовало в 1926-1927 и в 1936-1937 годы. Ни в том, ни в другом случае оно не обладало соответствующими административными полномочиями и не пользовалось влиянием. См.: РГАСПИ 17/3/979/3-4; Terry Martin. The Affirmative Action Empire; Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca , 2001. P. 394-401, 414.
(обратно)
946
The Memoirs of Nikita Khrushchev: the Original Dictation. CD 058. Track 058A; Хрущев. Воспоминания: Время, люди, власть. С. 26-27.
(обратно)
947
Хрущев. Воспоминания: время, люди, власть. С. 27. Другие партаппаратчики – Молотов, Орджоникидзе, Микоян — тоже скептически относились к идее создания русской коммунистической партии – см.: Чуев Ф. Молотов: полудержавный властелин. С. 268; выступления Орджоникидзе и Микояна на партийном пленуме в декабре 1925 года – РГАСПИ 17/2/205/4, 6, цит. в: Martin. The Affirmative Action Empire. P. 399.
(обратно)
948
Кутузов. Так называемое «Ленинградское дело». С. 56; Ленинградское дело. С. 61. Согласно непроверенным данным, идея была подсказана брошенным Сталиным вскользь замечанием о возможных преемниках. Его отход от активной политической деятельности, по-видимому, дал бы возможность «разгрузить ЦК ВКП (б) от непосредственного руководства Российской Федерацией и создать РКП (б) во главе со своим ЦК и с центром в Ленинграде. Одновременно надо реорганизовать и структуру ЦК, создав пост почетного председателя ЦК. Им назначить Сталина» передав должность Генерального секретаря Жданову, председателем Совета Министров СССР назначить Вознесенского, первым секретарем ЦК РСФСР — А. Кузнецова; на место Кузнецова в ЦК ВКП (б) поставить Родионова, освободив его от должности председателя Совета Министров РСФСР. МГБ МВД вновь воссоединить и во главе поставить секретаря Ленинградского обкома Попкова». См.: А. Авторханов. Загадка смерти Сталина (Заговор Берии). Frankfurt am Main, 1976. С. 76.
(обратно)
949
А. Собчак. Из Ленинграда в Петербург; Путешествие во времени и пространстве. С. 91-92. Авторы опубликованного недавно исследования советской национальной политики, ссылаясь на секретные документы архивов ФСБ, пишут, что, «судя по следственным материалам, обвиняемые Кузнецов А. А., Попков П. С, Вознесенский Н. А. и др. ленинградские руководители неоднократно вели между собой «враждебные и антипартийные» разговоры о дискриминации РСФСР и русского народа в экономическом, политическом и духовном аспектах». См.: национальная политика России: история и современность/под ред. В. А. Михайлова и др. м., 1997. с. 361, прим. 137.
(обратно)
950
Демидов. Ленинградское дело: попытка реконструкции. С. 147.
(обратно)
951
Руссоцентризм Кузнецова очевиден из текста его речи, произнесенной в 1947 году: «Бдительность должна явиться необходимым качеством советских людей. Она должна являться, если хотите, нашей национальной чертой, заложенной в характере русского человека»; см. РГАСПИ 17/121/616/6-86, особ. 86, цит. в Г. Костырченко. В плену у красного фараона. С. 72.; А. Кузнецов. Важнейшие задачи ленинградской партийной организации // Ленинградская правда. 1945. 3 июля. С. 3. Вознесенский, по-видимому, настолько откровенно высказывался на тему российского самоуправления, что Сталин считал его русским шовинистом; см.: Микоян. Так было: Размышления о минувшем. С. 559. Наиболее полно задокументированы высказывания Родионова о национальной гордости. В качестве председателя Совета Министров РСФСР он поддержал во второй половине 1940 годов замысел создания гимна российской республики. Слова гимна сочинил С. П. Щипачев, музыку — Д. Д. Шостакович. Одобренная Родионовым версия гимна заканчивалась строками: «славься, Россия, — отчизна свободы!/к новым победам пойдем мы вперед./В братском единстве свободных народов/Славься, великий наш русский народ»; см.; РГАСПИ 17/121/453/23. см. также: М. Родионов. Развитие хозяйства и культуры РСФСР в новой пятилетке / /Большевик. 1947. № 1. с. 38-55; речь председателя совета министров РСФСР М. И. Родионова//Ленинградская правда. 1947. 26 июня. С. 2-3; Родионов. тридцать лет российской советской республики / /Большевик. 1947. № 21. С. 18-32.
(обратно)
952
О том, насколько широко Попков обсуждал эту идею, см.: ЦГАИПД СПб 24/49/3, частично опубл. в.: ленинградское дело. с. 76-77; 25/28/10/16, цит. в: Кутузов так называемое «ленинградское дело». с. 56. см. также: ленинградское дело. с. 70. бросается в глаза руссоцентризм статей, вышедших из-под пера сотрудников Попкова по ленинградской парторганизации — см., например: С. Беляев. О работе товарища Сталина «Марксизм и национальный вопрос» // Ленинградская правда. 1946. 11 сентября. С. 5.
(обратно)
953
РГАСПИ 17/121/569/67-68; см.: А. В. Пыжиков. Конфигурация и функционирование власти в СССР (1945-1953 гг.). М., 1999. с. 21. Письмо Родионова от 27 сентября 1947 года в: РГАСПИ 17/121/569/68, опубл. в: Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР, 1945-1953. с. 246-247.
(обратно)
954
Член ленинградского горисполкома Булычев вспоминает, что «такое предложение не понравилось Сталину, но он открыто не высказался, промолчал». Воспоминания Булычева приводятся в: С. Константинов. Несостоявшиеся наследники Сталина: Способны ли были Николай Вознесенский и Алексей Кузнецов возглавить страну?//Независимая газета. 2000. 5 окт. с. 14.
(обратно)
955
Хрущев Воспоминания: Время, люди, власть. С. 25.
(обратно)
956
Хотя некоторые нарушения во время выборов могли иметь место, а ярмарка проводилась по инициативе Маленкова, положение Маленкова в партийном руководстве давало ему возможность представить события в выгодном для него свете. См.: Ленинградское дело. С. 66-68; Хрущев. Воспоминания: время, люди, власть. С. 25.
(обратно)
957
Согласно настольному календарю в сталинском кабинете, заседание состоялось 12 февраля; см.: Посетители кремлевского кабинета И. В. Сталина, 1947-1949 // Исторический архив. 1996. № 5-6. С. 48.
(обратно)
958
Резолюция, принятая 15 февраля 1949 года, была несколько туманной по содержанию, но явно угрожающей по тону; см.: РГАСПИ 17/3/1074/35-36, опубл. в: Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР, 1945-1953. С. 66-68.
(обратно)
959
См. воспоминания одного членов ленинградской парторганизации, В.В. Садовина, пострадавшего при чистке: ЦГАИПД СПб 4000/18/585/3. Автор выражает благодарность С. Мэддоксу за то, что он сообщил ему об этом источнике.
(обратно)
960
Н.А. Николаев был преемником Капустина на посту 2-го секретаря ленинградской парторганизации.
(обратно)
961
Г. Бадаев, 2-й секретарь парткома Ленинградской области, председательствовал на пленуме, созванном для обсуждения вопроса об отставке Попкова.
(обратно)
962
Я. Капустин 2-м секретарем Ленинградского обкома.
(обратно)
963
ЦГАИПД СПб 24/49/3, частично опубл. в: Ленинградское дело. С. 76-77. См. также ЦГАИПД СПб 25/28/10/16, цит. в: Кутузов. Так называемое «Ленинградское дело». С. 56. Попков пытался оправдаться не только в связи с его увольнением с поста секретаря обкома, но и выдвинутым Маленковым против него обвинением в национализме. Стенографическая запись речи Маленкова в архивах отсутствует — очевидно, она была уничтожена вместе с другими компрометирующими документами в 1954-1957 годы. См.: Ленинградское дело. С. 69-71; Собчак. Из Ленинграда в Петербург. С. 92-93; О так называемом «Ленинградском деле». С. 133-134.
(обратно)
964
Реакция Сталина напоминает его возражения против образования Российской компартии, высказанные в 1920 годы; см.: Martin. The Affirmative Action Empire. P. 399.
>
(обратно)
965
А. Поскребышев. Великое многонациональное советское государство // Правда. 1952. 30 декабря. С. 3.
(обратно)
966
Когда Феликс Чуев сказал Молотову, что невозможно допустить, чтобы Кузнецов всерьез намеревался добиться самоуправления РСФСР, тот оборвал его: «Тут не допускать нельзя. Все это может быть. Он был отличный, хороший человек, но в политике это, знаете, бывает более сложно. Было по ним крайнее решение принято — это да. А что-то было». См.: Чуев. Молотов, полудержавный властелин. С. 531, 510.
(обратно)
967
Во время допросов ленинградские руководители признались в том, вынашивали подобные планы, но достоверность этих показаний представляется сомнительной. В обвинительном заключении Кузнецова приводятся его слова, сказанные во время следствия: «Мы неоднократно с вражеских позиций обсуждали вопрос о необходимости создания РКП (б) и о целесообразности перевода правительства РСФСР в Ленинград. В сокровенных беседах между собой Попков и Капустин называли меня будущим секретарем ЦК РКП (б), а я в душе уже ликовал и мысленно представлял себя руководителем коммунистов Российской Федерации».
Родионов говорил: «Я был проникнут недовольством против ЦК ВКП (б) и советского правительства. Я придерживался враждебного убеждения, что ЦК ВКП (б) и советское правительство не проявляют якобы должного внимания и заботы в отношении РСФСР, ставя в привилегированное положение другие союзные республики, и в этой связи носился с идеей создания ЦК РКП (б)». Аналогичные признания сделали Попков и Лазутин, заявив, будто были убеждены, что ЦК ВКП (б) оказывает предпочтение союзным республикам, а интересами РСФСР пренебрегает; см.: Dmitry A. Volkogonov Papers. Reel 2, container 3, folder 14, p. 19.
(обратно)
968
Платонов. Тайная история России. С. 304-311.
(обратно)
969
А. Г. Маленков. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992. С. 61.
(обратно)
970
О «Деле врачей» см.: Г. Костырченко. В плену у красного фараона: Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. М., 1994. С. 355-366; об отказе от массовых политических репрессий и кампаний за соблюдение «социалистической законности» см.: Н. С. Хрущев. Воспоминания: Избранные фрагменты. М., 1997. С. 285-299; о разделе Германии см.: Amy Knight. Beria: Stalin's First Lieutenant. Princeton , 1993. P. 185-191; Charles S. Maier. Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany . Princeton , 1997. P. 17.
(обратно)
971
ЦМАМ 278/1/23, опубл. в: Кусок коммунизма: Московское метро глазами современников//Московский архив: историко-краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1996. С. 348, 355.
(обратно)
972
Самые первые директивы, осуждающие культ личности, см. в: РГАНИ 5/30/7/51.
(обратно)
973
Хрущев. Воспоминания. С. 274; Knight Beria. Р. 186-191, 227. Пытаясь, по-видимому, снискать расположение Берии, Александров выступил на заседании Академии наук в марте 1953 года против руссоцентристской тенденции. Он заявил, что нет необходимости в существовании Института славянской истории в структуре Академии наук, «так как истории народов необходимо вести не по принципу их национальной принадлежности, а по общественно-экономическим формациям, сообразно возникавшему и развивавшемуся в различных странах социально-экономическому строю». См.: РГАНИ 5/30/7/55.
(обратно)
974
РГАНИ 5/30/39/23. Эта кампания, проводившаяся Институтом истории под началом его нового руководителя А. Л. Сидорова, открыто противопоставлялась прежней деятельности института под руководством специалиста по Киевской Руси Б. Д. Грекова, якобы не уделявшего должного внимания некоторым периодам новейшей истории; см.: РГАНИ 5/30/39/11-12, 20-26, 51.
(обратно)
975
Запись от 13 февраля 1954 года в: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева//Отечественная история. 1999. № 6. С 119, 131.
(обратно)
976
РГАНИ 5/30/82/47-48.
(обратно)
977
РГАНИ 5/30/82/99-100; 5/18/41/89-91.
(обратно)
978
РГАНИ 5/18/75/90. Наибольшие возражения учебник Шестакова вызвал у редактора издания «Encyclopedia Britannica», бывшего сенатора США Уильяма Бентона, который даже высказал неопределенную угрозу обратиться в ЮНЕСКО по поводу имевшихся в учебнике искажении реальных исторических событий. Школьный отдел ЦК в открытом письме обвинил американского критика в том, что он хочет быть «святее самого Бога» и сослался на опубликованную в «Нью-Йорк таймс» в 1951 году статью «Школы обвиняются в недостаточном внимании к России», однако в частной записке признался, что «написанный более 10 лет тому назад, этот учебник отстал от требований современной науки. В настоящее время министерство просвещения готовит новую учебную книгу по истории СССР для IV класса»; см.: РГАНИ 5/18/77/11; Benjamin Fine, Schools Accused of Ignoring Russia //New York Times. 1951. March 5. P. 23.
(обратно)
979
Спустя несколько дней после знаменитой секретной речи Хрущева среди документов для внутреннего пользования появились записки относительно планов переработки четверти всех школьных учебников, в том числе почти всех учебников истории (за исключением «Родной речи» и трехтомной «Истории СССР» Панкратовой) — см.: РГАНИ 5/18/76/6, 9-10, 14-24, 30-33. В результате изъятия из программы скомпрометированного исторического катехизиса были даже отменены экзамены, сдававшиеся старшеклассниками в конце учебного года.
(обратно)
980
РГАНИ 5/18/76/37-42.
(обратно)
981
Большой вклад в опровержение сталинского мифа об Иване IV внесла Панкратова, главный редактор «Вопросов истории». Наиболее полно этот вопрос освещен в публикации: Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева//Отечественная история. 2000. № 1. С 158-172. особ. 164-171. В двух полемических статьях отражены споры, разгоревшиеся по этому поводу в официальной исторической науке: С. М. Дубровский Против идеализации деятельности Ивана IV // Вопросы истории. 1956. № 8. С. 121-129.
М. Д. Курмашева Об оценке деятельности Ивана Грозного // Вопросы истории. 1956. № 9. С. 195-203. См. также: Л. А. Сидорова Анна Михайловна Панкратова // Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 429-433; Maureen Perrie. The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia . New York , 2001. P. 179-191.
С.М. Дубровский, который был известным противником культа Ивана Грозного, в годы хрущевской оттепели выступил также против установки памятника Юрию Долгорукому под тем предлогом, что не подобает возводить на самых видных местах столицы социалистического государства памятники таким чуждым народу личностям, как князь, живший в XII веке. Редактору «Известий» было прислано письмо читателя, несогласного с Дубровским; см.: ОР РГБ 797/17/12/1-6, опубл. в: Московский архив; историко-краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1996. С. 341-342.
(обратно)
982
Lowell Tillett The Great Frienship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. Chapel Hill , 1969. P. 194-284.
(обратно)
983
Roman Szporluk. The Russian Question and Imperial Overextension//The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective/Ed. by Karen Darwisha and Bruce Parrot. Armonk, 1997. P. 82; Szporluk. Introduction: Statehood and Nation-Building in the Post-Soviet Space//National Identity and Ethnicity in Russia and the New States of Eurasia/Ed. by Roman Szporluk. Armonk, 1994. P. 5; Szporluk. Nationalities and the Russian Problem in the USSR //JournaI of International Affairs. 1973. Vol. 27. Jfe 1. P. 40; Vera Tote. Russia : Imagining the Nation. New York , 2001. P. 182-183, 203-204.
(обратно)
984
P. Брубейкер согласен, что понятие «советского народа» было связано с дополнительным чувством сверхнационального самосознания, объединявшим отдельные советские нации; см.: Rogers Brubaker. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe . Cambridge, Eng., 1996. P. 28.
(обратно)
985
Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза//Коммунист. 1971. № 5. С. 60. Разумеется, республиканским партийным элитам вряд ли могло понравиться утверждение, что советские нации «сближаются», сливаясь в «единую общечеловеческую культуру»: в результате республики могли лишиться своего федерального статуса. Они, скорее всего, видели в этом нечто большее, нежели русификацию «с человеческим лицом», и наличие в партийной пропаганде таких сталинских эвфемизмов, как «великий русский народ», а также шовинистических заявлений, что русский язык служит средством связи союзных республик с мировой культурой, только подливало масла в огонь. См., например: Резолюции и решения Двадцать второго съезда КПСС (1961)//КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 8. М., 1972. С. 206, 284-285, 212.
(обратно)
986
Yitzhak Brudny. Reinventing Russia : Russian Nationalism and the Soviet State, 1953-1991. Cambridge , Mass. , 1998. P. 43.
(обратно)
987
См., например: John В. Dunlop. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton , 1984. P. 32-36, 63-92; Timothy J. Colton. Moscow : Governing the Socialist Metropolis. Cambridge , Mass. , 1995. P. 553-562, 592; Ethnic Russia in the USSR : The Dilemma of Dominance/Ed. by Edward All worth. New York , 1980. Несколько иные взгляды высказываются в: Mikhail Agursky. The Prospects for National Bolshevism//The Last Empire: Nationalism and the Soviet Future/Ed. by Robert Conquest. Stanford. 1986. Особ. P. 96-106.
(обратно)
988
Brudny. Reinventing Russia. P. 59; Николай Митрохин. Русская партия: Движение русских националистов в СССР, 1953-1985. М., 2003. Гораздо более тенденциозны воспоминания одного из бывших помощников Суслова: А Байгушев. Русская партия внутри КПСС. М.: Алгоритм, 2005. О националистическом движении радикалов, не желавших мириться с режимом см.: Людмила Алексеева, История инакомыслия в СССР. Benson, V. T.,1984. С. 396-413.
(обратно)
989
Митрохин. Русская партия.
(обратно)
990
Nicholas Timasheff. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia . New York , 1947.
(обратно)
991
Т. Мартин связывает этот идеологический поворот с «русификаторскими» изменениями в советской национальной политике в начале 1930-х годов, однако связь эта скорее случайна. Не говоря уже о том, что не вполне ясны причины и взаимосвязь различных административных решений, принимавшихся в то время, их сходство с более поздними культурными формами русификации носит поверхностный характер. Административная русификация сводилась в основном к ограниченным реформам управления страной с целью его упорядочения и рационализации, в то время как культурная русификация представляла собой более широкий комплекс вне-бюрократических мероприятий по усовершенствованию мобилизационной пропаганды путем частичной идеологической переориентации. В старых партийных и государственных архивах не обнаружено документов, которые указывали бы на прямую связь между этими двумя политическими новациями. См.: Terry Martin The Russification of the RSFSR//Cahiers du Monde russe et sovietique. 1998.. No 39. P. 99-118.
(обратно)
992
Первоначально советское государство было построено с таким расчетом, чтобы лишить российскую республику возможности отстаивать свои интересы, поэтому в ней и не было создано ни отдельной Российской компартии, ни государственных органов. Всесоюзное руководство опасалось, что эти административные структуры придадут РСФСР слишком большой вес, который позволит ей соперничать с центральной властью.
(обратно)
993
Существует мнение, что Сталин считал русских «народом-государственником»; см.: Terry Martin. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca, 2001. P. 20, 396-397. Более «интернационалистский» взгляд на роль русского народа в советском историческом эксперименте высказывает в своих интервью бывший соратник Сталина Молотов; см.: Чуев. Молотов: полудержавный властелин. М. 2000. С. 333-334
(обратно)
994
Об успехах советской пропаганды до 1953 года см.: Roy Medvedev. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism/Ed. by George Shriver. New York , 1989. P. 716-717.
(обратно)
995
«Пролетарский интернационализм, "советский патриотизм" и формирование руссоцентристского представления о государстве в период сталинизма 1930-х годов».
(обратно)
996
«"Народу нужен царь”: Возникновение национал-большевизма как сталинской идеологии».
(обратно)
997
«"Народный поэт": Руссоцентристский популизм во время пушкинских памятных торжеств 1937 году в СССР».
(обратно)
998
«Советский социальный менталитет и руссоцентризм накануне войны, 1936-1941».
(обратно)
999
«Сталин, "Ленинградское дело" и пределы послевоенного руссоцентризма».
(обратно)
1000
« “…развивать русский национализм – задача первостепенной важности”: Споры между создателями сталинской идеологии. 1941-1945».
(обратно)





